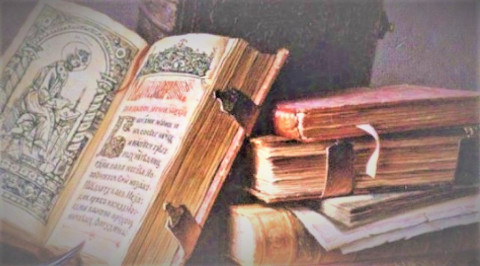Русанов Владислав - Укропочка ID #9190
Укропочка
Ветер рвал кумачовый транспарант с аршинными белыми буквами: «Пламенный привет покорителям глубин!» Ткань надувалась и хлопала, заставляя стариков, которые ещё помнили войну с Украиной, опасливо коситься на небо.
Дважды набегали тучи и начинал накрапывать дождь, вынуждая духовой оркестр военного училища рысцой бежать под навес. Но, поскольку дальше нескольких капель дело не шло, музыканты возвращались и рассаживались на пластиковые стульчики.
— Твоя работа? — Вальдемар Карлович Вайс осуждающе глянул на профессора Исаева, более известного в Донецке, как Великий Заклинатель Дождя.
— Ты что, я же без гитары! — делая честные-честные глаза, ответил маг второй категории, он же доктор филологии.
— Но признайся, что ты в эти мгновения думал о дожде.
— Не поверишь, я думал — гори оно всё огнём! У меня монография не вычитана, а я здесь прохлаждаюсь.
Вайс кивнул. Что тут возразить? На полигоне «Карбон-21Х» больше двух часов скучала разношерстная компания. От журналистов региональных СМИ до лидеров общественного мнения Донецкого федерального округа и от магов-хранителей до гендиректоров НИИ и промышленных холдингов. Всё было готово к торжественному запуску уникального аппарата «Вергилий-3» — самого наукоёмкого на просторах России после высадки лунохода. Но запаздывал губернатор, что, кстати, делал весьма часто, и провожающие вместе с экипажем маялись от безделья.
«Вергилий» стоял, как бы на стапелях, а на самом деле между четырьмя мощными направляющими. Его обтекаемое тело из титано-ванадиевой стали напоминало гигантский артиллерийский снаряд, устремлённый остриём в недра земли. Носовая часть состояла из трёх огромных конических шарошек, армированных зубками из сверхтвёрдого материала. Над ними находился двигательный отсек, работающий на водородном топливе. Дальше рубка, лабораторный, жилой и грузовой отсеки, отделённые подшипником от двигателя и породоразрушающего инструмента.
Задача экипажу ставилась простая, но важная. Пройти толщу осадочных пород, гранитный и базальтовые слои, вбуриться в поверхность Мохоровичича. Отбирать образцы пород по всему маршруту, вести геофизические замеры градиентов магнитного поля, гравитационного и радиационного, регулярно «прозванивать» толщу вокруг себя ультразвуком и фиксировать результаты.
Если задуматься, то мантию Земли, занимающую пространство от слоя Мохоровичича до границы Вихерта-Гутенберга , недроход только слегка поковырял бы сверху, но по сравнению с мизерными исследованиями предыдущих поколений даже такая малость стала бы гигантским прорывом.
Недроход — не космический корабль. Точное время старта ни на что не влияет.
Поэтому собравшиеся уже в восьмой раз слушали «Что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был...» и шестой раз «Мы возвращаемся домой...» в исполнении старенького, но бодрого директора филармонии с такими же пенсионерами музыкального труда на подпевках.
Вайс на трибуне для почётных гостей лениво обмахивался шляпой и от нечего делать сканировал ауры гостей, сиявшие розовым и золотым. Исаев нервничал и делал быстрые пометки в блокноте. Генерал-майор Тополин давал пятое интервью московским журналистам. Магички-поэтессы громко читали стихи о геологической романтике. Нарушивший ради такого случая добровольное уединение мосье Койфман собрал вокруг себя юных интеллектуалов и пытал их каверзными вопросами из минувших игр «ЧГК».
Каждый развлекался как мог.
Красно-чёрный сгусток ауры в полусотне метров от стапелей Вальдемар заметил случайно, когда в очередной раз скользнул «истинным зрением» по полигону.
— Прикроешь! — коротко бросил он Исаеву и перепрыгнул, как в молодости, через ограждение трибуны.
Охранники в красивой униформе бросились ему наперерез, когда маг-хранитель ступил на усыпанную гравием площадку перед «Вергилием».
— Господин Вайс! Господин Вайс! Туда нельзя!
— Узнали... — улыбнулся в эспаньолку Вальдемар. — Смышлёные! Ты и ты! — Трость легонько ткнулась в бляхи на ремнях служивых. — Оба со мной!
Ему даже не пришлось прибегать к магии. Сработала слава борца с нечистью, о которой ещё не забыли.
Они рысцой пересекли полигон. Вайс держал наготове парочку боевых заклинаний. Не часто в последние годы встречалась такая аура.
В густой траве прятался ребёнок лет пяти.
Грязный, с нечесаными сальными патлами, одетый в лохмотья, бывшие когда-то камуфляжной одеждой. Охранники, как по команде, выхватили пистолеты.
— Осторожно! — предупредил их маг. — Может плеваться. Ядом.
Сам подошёл к ребёнку, пальцами левой руки создавая фиксирующий кокон.
Увидев его, ребёнок приподнял верхнюю губу, обнажая мелкие и острые зубы. Зарычал. В звуках, весьма отдалённо напоминавших человеческую речь, угадывалось:
— Украина. Понад. Усэ.
— Фу!!! — строго приказал Вайс. — Нельзя!!!
Мальчик или девочка — из-за грязи не понять — сжался в комок, изготовившись к прыжку.
— Слава! Героям!
— Есть хочешь? — Вальдемар присел на корточки, протягивая на ладони половину шоколадки.
Неуловимо быстрый взмах маленькой руки. Шоколад исчез во рту.
Ребёнок довольно заурчал.
— Бандера прыйдэ...
Судя по голосу, всё-таки девочка.
— Не прыйдэ, — ответил Вайс, тонким магическим «усиком» касаясь центра агрессии в мозге существа с территорий. — Никогда он не придёт. — Повернулся к охранникам. — Сколько лет прошло, а они всё выходят из лесов. Ладно, взрослые дураки, жертвы ЦИПсО, но детей жалко.
— Это лечится? — спросил один из парней — плечистый и розовощёкий.
— Лечится. Хорошей едой. Добрым отношением. И русским словом. Забирайте эту укропочку. В центр деукраинизации её, а мне пора.
В ворота полигона «Карбон-21Х» въезжал губернаторский кортеж, а Вальдемара Карловича ждала бутылка «Артёмовского игристого», которую предстояло разбить о борт недрохода.
2022, Донецк
Владислав РУСАНОВ (Донецкая Народная Республика, г. Донецк)
НОМИНАТОР ИРИНА ГОРБАНЬ
Август Ксения - Песочный человечек ID #8816
* * *
Ведёт метель по детскому плечу
смычком своим и бережно, и чисто,
учи меня, когда я не хочу,
когда я не могу уже учиться,
и шёпот мой срывается на крик,
и ставится на месте слова прочерк,
когда темна я только изнутри,
но эта тьма страшнее всяких прочих.
Метель ведёт, а слышен человек,
скажи, звучит к добру он или худу?
Учи меня, учение не свет,
а лишь процесс закаливанья духа.
Метель ведёт, в её руке смычок,
дыхание его длинною в вечность,
учитель мой, с клейменным ей плечом,
учи меня через своё увечье,
учи меня не так, как я могу,
а так, как не могу и мыслях даже,
учитель мой, мы в адовом кругу,
в светящемся кольце многоэтажек,
и ты, и я – мы все ученики,
своих учителей бессмертных тени,
учитель мой, люби меня таким,
веди по мне смычком своим метельным.
* * *
Боль уходит, время лечит,
изживается тоска,
я – песочный человечек,
сын балтийского песка,
хрупкий, слепленный небрежно
голопузым пацаном,
человечек центробежный,
целотонный и цепной.
Стынет воздух колокольный,
стонет ангельская рать,
мне не страшно, мне не больно,
мне не долго умирать.
Догорает солнца свечка,
слов расходятся пути,
я янтарное сердечко
вынимаю из груди,
пусть оно теперь посветит
тем, кто рядом был со мной,
а меня развеет ветер
над волной.
* * *
И быть крапивой жгучей и высокой,
бессонно петь, быть частью божьей речи,
хватать детей за тонкие лодыжки,
расти из не пойми какого сора,
из впадин всех земных, небесных трещин,
и глубже быть самой себя, и выше.
Любить тебя, любить и больно ранить,
и раненой у ног твоих ложиться,
и умирать от рук твоих горячих,
больших твоих и милосердных рук,
и воскресать до литургии ранней,
до всякой не проснувшейся к ней жизни,
и каждый позвонок и каждый хрящик
по новому в себе предслышать вдруг.
Спиной касаться выжженного дёрна,
ржаных колосьев животом касаться,
ладонями – случайного тепла,
рубашкой быть твоей недоплетённой,
зелёной, однорукой, нежной самой,
быть продолженьем твоего крыла:
лебяжьего, неспящего, немого,
кольчугою твоею невесомой,
из светлячковых сотканной мерцаний,
из крыл стрекозьих, бабочкиных сот,
ни страха не испытывать, ни боли,
лишь благодарность, засыпать под солнцем
подсолнуховым, твоего лица не
запомнив, только свет идущий от.
Агрба Эсма - От души и серда ID #8495
Женская Сила
Гадали девушки в ночи
По звездам и луне,
По нитям, пламени свечи,
И по речной воде.
Гадали девушки в ночи,
Гадали на любовь.
К вопросам подобрать ключи
Старались вновь и вновь.
Узнать хотели где, когда
Им сужено найти
Того, с кем проживут года
В сияющей любви.
Окутывало волшебство
Гадающих теплом,
Искрилось в душах естеством
Вещая о былом.
О тех далеких временах,
Когда в сердцах людей
Теплилась магия, не страх,
Касаясь хмурых дней.
Когда в таинственном кругу,
Рука в руке сойдясь,
Хранили женщины волшбу
От мира не таясь.
Когда Ведуньи знали путь
И освещали жизнь.
Когда семьи хранилась суть
В руках у Берегинь.
Не гас очаг, не мерз ручей,
И не касалась тьма.
Ведь Ведающих Матерей
Людей вела рука.
Гадали девушки в ночи,
Гадали на любовь.
Но знаний больше обрели,
Ведь говорила кровь.
Кровь тех, кто мудростью своей
Хранил, оберегал
Своих мужей, своих детей
И род не предавал.
В сердцах сестер, у жен в глазах,
В руках у дочерей,
Во всех мирах и временах
Живет дар матерей.
Дар, что призвать дано любой,
Кто в памяти хранит
Ту силу, данную судьбой
Всем женщинам Земли.
Танец Над Бездной
В танце над Бездною двое кружат,
Он и Она свои тайны хранят.
Много вопросов друг к другу у них,
Но нет ответов, намеки одни:
Полуулыбка в момент проскользнет,
Полупоклон один с мысли собьет,
Вот полужест, полушаг, полувзгляд,
Словно не танец, а целый обряд.
Танец над Бездной опасен всегда –
Может танцоров пленить навсегда.
Но без опаски танцуют они,
Их не тревожа сменяются дни.
Шаг, еще шаг, а затем поворот –
Смело Ее Он над Бездной ведет,
Но незаметно Она иногда,
Все же, Его направляет сама.
В танце над Бездною двое кружат,
И расходиться они не спешат.
Пара такая найдется всегда –
Он и Она – Человек и Судьба.
Колыбельная
Баю - баюшки - бай
Спи, мой малыш, засыпай,
Мама тихонько поет -
Сон к колыбели зовет.
Баюшки - баю - баю
Ты помни песню мою,
Песня от сердца идет -
Радость она принесет.
Часики тихо идут,
Маме они подпоют,
Ей подпоет теплый дождь,
Ей подпоет сама ночь:
Баю - баюшки - бай
Спи, мой малыш, засыпай,
Мама тихонько поет -
Сон к колыбели зовет.
Баюшки - баю - баю
Ты помни песню мою,
Песня от сердца идет -
Радость она принесет.
Котик свернулся в углу,
Песик глядит на луну,
И средь ночной тишины
Мамина песня звучит:
Баю - баюшки - бай
Спи, мой малыш, засыпай,
Мама тихонько поет -
Сон к колыбели зовет.
Баюшки - баю - баю
Ты помни песню мою,
Песня от сердца идет -
Радость она принесет.
Акулинина Яна - Внутри поэта ID #8707
***
Я уже была внутри младенца:
Носила с капюшоном полотенца.
Улыбалась и искала муху.
День сменялся днем. И так по кругу.
Я уже была внутри подростка
И скажу, что это было жестко.
Белая ворона и ботаник.
Я сама себе и кнут и пряник.
Я уже была внутри невесты -
И себе не находила места.
Странно быть на голове с фатою.
Жизнь тогда казалась мне простою.
Я уже была внутри с младенцем.
Он любил выкидывать коленца.
Странно жить внутри себя с соседом,
Да еще и с суверенитетом.
Я уже была внутри поэта.
Но ведь не об этом песня эта!
Здесь и рифма подойдет простая:
Лишь внутри кого-то я живая!
* * *
Между усмешкой и широкой улыбкой
Есть удивительный промежуток.
(Это без шуток.)
Он небольшой. Может, едва уловимый.
Но именно в эти 8 секунд
Я тебе нежно скажу: «Любимый».
И тогда, в дни тяжёлых сомнений,
В дни безмятежности или невыносимой боли
Эти слова в нашей жизненной трудной школе тебя сберегут.
Между ладонью на талии и скрещёнными в безумстве пальцами
Есть что-то дикое, необъяснимое для других.
Это как между неандертальцами:
Смешно и сказочно – ты мой жених.
Если когда-нибудь это произойдёт,
Мы прилюдно и даже не гордо
Скажем друг другу: «Да!»
Ты подумаешь: «Я идиот!»
И успокоишься: это не навсегда.
И пусть как у Боярского «Всё пройдёт»,
И яхту мы назовём не «Победа», а так, «Беда».
Мы не занимали очередь, но идёт наш черёд.
(Мужчина, Вы проходите?
Не задерживайте других!)
Между сомнением и твёрдым решением
Целая жизнь. Я могла бы расстроиться.
Но предпочту ударение на третий слог.
Очень нездорово, что теперь ты мой Бог.
И я приношу себя в жертву.
Целую тебя в висок.
Как пуля? (Не спросишь ты.)
И я отвечу наискосок.
Как любовь.
***
Мысли пчелились в моей голове
И муравьились по телу.
Я возлежала в высокой траве
И предавалась безделу.
Солнце лизало мой кожный покров,
Как эскимо, я вспотела...
Вот дефилирует стадо коров
Гордо, упрямо и смело!
Знаю и я, как давать молоко:
Мощный секрет материнства.
Жаль, что не пахнет “Шанелью Коко”
Братство, Свобода, Единство.
Мысли пчелились в моей голове
И муравьились по телу.
Я возлежала в высокой траве
И безнадежно взрослела.
Стихотворения.
«Анти ода себе».
Затяжку бы – ещё одну!
Ещё одну. Ещё одну.
Я – через край уже! Ко дну –
Стремглав иду! Иду – ко дну!
И что теперь?! – И ну, и пусть:
Свернусь! Иссохнусь! Испарюсь!
Я всем оставлю – боль и грусть…
Лишь боль и грусть… Лишь боль и грусть…
Пучина Стикса – для меня:
Ведь грешен я, виновен я:
Я много клялся – не до дна,
Живя зазря – день ото дня.
Я с Богом спорил – много раз!
Я – много раз! Я много раз
Хотел быть нужным – здесь, сейчас –
Хотя б на день, хотя б на час.
И Всё – случилось: как и в старь –
Не угодил, не угадал.
Как человек, как божья тварь –
Недолюбил, недосказал!
*
Но всё ж… иду по изразцам –
«И снизу – лёд, и сверху!»; гнёт
Крест; чело – не по венцам.
Конец?! – Начало! – (всем концам), –
Коль философия не врёт.
«Благопожелательное».
Перемешай сосуд страстей,
Пороков и святых желаний,
И то, чтό явится, испей, –
Как истину благих познаний.
Не возгордись! И отрешись –
От лживых дум и распознаний.
Не запирайся! Не божись –
На эзотерику всезнаний.
Иди дорогой– непрямой;
Прямую – тризне распрощальной.
Стремись! Усердствуй – как немой:
И негу дашь душе страдальной.
Семья, удача, а не дрожь –
До твоей оды поминальной –
С тобой пребудут, лишь взойдёшь
На паперть милость раздавáльным.
Не рассекречивай сосуд –
Он не для праздных вопрошаний, –
Он для познания – «в чём суть»
И компас для предначертаний.
Иди смелей! и не ропщи,
Молитвы – не сверяй с дарами!
Ну а не сдюжишь – не взыщи:
Восстань опять – перед страстями!
«Я напишу свою любовь…»
Я напишу свою любовь
И спрячу в дальний уголок.
Когда придёт ТОТ миг, я вновь
Достану праведный листок.
Я промолчу, ТА – всё поймёт,
Хоть не услышит милых слов.
Пегаса устремлю в намёт, –
Не повредив любви покров, –
Лишь только сердце распахнёт
И примет всё, – как есть во мне,
Не укорит. И расцветёт
Безумство нежности во мгле.
Я обернусь самим собой,
И звёзды будут вровень нам.
Я встану за неё горой
На смерть бушующим ветрам.
Маленький рассказик про ужасные муки творчества. И сладость сотворенья.
«От «шедевра» – к шедевру».
Эпиграф.
«Ой ли? Ох ли? –
Сколь нам открытий чудных-то да приготовлено…
Свершиться ль?!»
Почти Пушкин А.С.
Бывает так, что сходу накропаешь чего-нибудь – сам от себя обалдеваешь:
– Старик!
– Ну, что?
– ЭТО – ге-ни-аль-но!
– Ну так!
За другими же заботами прибережёшь сей «шедевр» в нижнем ящике письменного стола, да и позабудешь невзначай и без сожалений.
А через пару дней или пару недель, а случается, что и через несколько лет, ненароком вспомнив про то «сокровище», достанешь его, прочитаешь:
– Ага-а! – вроде бы какая-то мыслишка дельная да знатная, что-то свеженькое да бесподобненькое, – подтверждённое вывалившимся когда-то «ге-ни-аль-но!», – всё ж таки да просвечивается.
Хотя, отстранившись от авторских боёв с редакторами за стиль, грамматику, «устарелости» и «неологизмы»; от адвокатских прений за первородство, – взглянешь беспристрастно, так сказать, со стороны, то, вообще-то, честно говоря, – чушь несусветная и невыносимая.
Но поразмышляешь, покрутишь, переставишь, перепишешь, помучаешься в поиске более точных слов, более ёмких определений и… И приходишь к единственной дилемме: либо взять всё это «сокровище» да и сжечь, либо вновь спрятать, только теперь уж куда-нибудь подальше – в какую-нибудь архивную коробку, чтоб, задвинув её в дальний угол чуланной антресоли, на самые её запятки, проститься – теперь уж на век.
Или всё же…
* В руки взяв себя,
как в свинцовом
адском Бискае зимой,
Как держащийся за штурвал
Или сросшийся с ним рулевой
От напряженья Начала,
(так каждый раз),
судьбоносного мне пути,
От беспрестранной мозговой маеты
и височной кровяной долботни –
Мгновенья часов не сводя –
Просижу, прохожу, прокурю,
Про- не знаю чего ещё; –
Расставляя-перенося,
Перечёркивая-обводя,
Вызубившись на нелепейший срез,
на свои глухие мозги,
на неуклюжесть и каменность чувств,
на хитрости-каверзы заумных Небес,
Вдрызг себя измотав,
Не жандобясь и не молясь –
В поисках сути и решительных фраз.
Забыв про заваренный
и не выпитый чай много раз…
Но это состояние конечно: чуть раньше или много позднее, но неизбежно, приходит момент, когда через кривости и тупики чернильных дорог и обрывов, через валежники бумажных потуг, исцарапанных бездушной пустотой, через завалы ложных впечатлений, исчёрканных и перечёркнутых собственной же цензурой, наконец-то взвихрившиеся запечатления того, что когда-то видел, что уже испытал, что приносило радость и боль, тоску и надежду, – на поверхности остаётся лишь то, что уже вполне способно, пусть эхом, приоткрыть другим испытанную мною импрессию. Вот тогда, пережитые давным-давно максималистские чувства и мысли, беззаветные желания и свершения, бездумные жесты и гримасы, милые сердцу голоса и портреты – начинают проявляться, как фотография на бумаге при печати: слова перестают заикаться, обретённые смыслы – перечить друг другу, а открывшийся светлый путь – уже без промоин, колдобин и рытвин – освобождается от хлама и негодной наволочи.
В тот момент, нега удовлетворения, облегчения и даже очищения, обволакивает и снимает цепенящее мышечное напряжение, а душе дарует благость, – словно скромный глоток бесценной воды в убивающий зной кромешной пустыни, умолив ротовую и гортанную наждачную сухость, позволяет и всему телу распрямиться, возвращая в него жизнь. И, с еле уловимой даже самим собой, с незримой и неведомой другим, улыбкой на своём лице, с какой-то приятной опустошённостью от того, что тяжесть груза от чего-то недоделанного, недосказанного, недопонятого, недопрочувстванного – сошла-таки с плеч и разневолила сердце, – становишься прямо-таки младенцем.
* И лишь обогнав нескончаемость миль маяты,
Оставив трескучее за кормой,
Лукавство и кривь подперев,
Создав не одну нейронную сеть,
С Благословеньем Небес, –
Кровь отштормит,
перестанет рвать мне виски.
Раскрепощусь.
И подсознание моё войдёт:
В бесконечность
нерасшифрованных ранее смыслов
моих неосознанных впечатлений;
В бездну чистых страниц-листов
незаписанных откровений;
В пробуждение
растворившихся ранее снов.
Хотя наступившее «младенчество» быстротечно: как у пляжных красот – недолгая, растерянная безмятежность после первого же вероломного порыва ветра, – в дрожь разбивающего лагунную гладь, – нежданного, но неминуемого, вот-вот взорвущегося тропического шторма, прекращающего обручальную идиллию неба и моря; как минутное столбенящее замешательство в ужасе – у беспечного созерцателя, вдруг оказавшегося на междупутье на скоростном пролёте меду двух встречных поездов.
Как и отступающая с пляжа волна, – отдавшая все свои силы, в попытке захватить берег, – освобождает место уже идущим на него очередным накатам своих сестёр, – так и жадная, непреодолимая потребность творчества, позволив закончить одно начинание, а зачастую – в параллель с ним, вновь накрывает меня перманентным трепетом и сладостными муками проторивания неизведанного пути – новорождённого путешествия в мир безрассудных, но чистых и искренних чувств.
Как новая жизнь! – Всё начинается сначала!
* – отрывки из моего стихотворения «К Вячеславу Куприянову. Откровение».
Рассказ. (То ли очерк. То ли эссе. То ли притча.)
«Причалы. А ещё и про моё троякое знакомство с Виктором Конецким».
Посвящается:
Эдмундасу Казевичу Вецкусу
и
Виктору Викторовичу Конецкому
…Слово, конечно, не воробей,
а топор – верней.
Да Праведность, всё же, крепче!
Ни пера, ни пуха!
А души и духа!
I. Предисловие.
У всех различные не только походка, капилляры на пальцах и изгибы ушных раковин, но и судьба: и дороги, которые мы выбираем и нет, и нежданные встречи, и крутые развороты. Головокружительно – попытаться представить, что какое-то шапочное знакомство, состоявшееся между прочими несколько десятков лет назад и давно позабытое, спустя многие буреломные и штилевые годы, способно повлиять и определить, что теперешняя вынужденная непреднамеренная швартовка именно в этом малознакомом порту и есть не что иное, как твоя главная в жизни удача, твоя точка опоры, твоё место силы. И что остаться здесь – теперь уже до конца – твоё Предначертание.
Провидением явилось то моё древнее поручкание или же досужей случайностью – я до сих пор точно не знаю: видать, что разобраться в этом и расставить все точки над «ё», время ещё не пришло. Ну, а ежели те недельные посиделки и не Знаком судьбы вовсе было? а всего лишь шансом лотерейным! Так – тό и пусть: при любом растолковании – такое нельзя упустить за просто так, за здорово живёшь. Хотя, в жизни всё что ни есть – шанс, а стало быть, и Знак!
II. Имя.
Есть такой известный писатель Виктор Конецкий. Наверняка большинство знакомо с его творчеством – маринистикой, а точнее – морской прозой. А ещё он всю свою жизнь писал картины, да ещё какие! – замечательные акварели: марины, пейзажи, натюрморты. Ну, а если вдруг кто-то посчитает, что многогранный талант Конецкого оставил того незамеченным, то, уверяю, это вовсе не так: наверняка все смотрели любимую многими эксцентричную кинокомедию «Полосатый рейс»; как раз Конецкий В.В. и написал (в соавторстве) сценарий этого фильма по-своему же рассказу. А во флотских, да и не только, кругах очень популярна присказка про матроса Курву, который своими деяниями полностью оправдал собственную фамилию: та прибаутка, – как раз из рассказа Виктора Викторовича «Административное расследование».
К сожалению, Виктор Конецкий скончался уже больше 20 лет назад. В 2024 году ему исполнилось бы 95 лет.
III. Однажды.
До того случая – я никогда не издавался, если не принимать в расчёт мои немногочисленные заметки и мини-очерки о людях, с которыми посчастливилось повстречаться и вместе поработать, о различных жизненных историях и событиях, которые случались в многомесячных рейсах, короче говоря, обо всём том, что так или иначе было связанно с моей тогдашней работой. Те повествования печатали на своих страницах газеты «Моряк Литвы» и «Рыбак Литвы» ещё во второй половине 1980-х, когда я был мореходом (хотя в своей профессиональной среде мы друг друга называли мореманами) – штурманом дальнего плавания и ходил по всем морям и океанам помощником капитана на рыбопромысловых судах; а портом моей постоянной приписки (она же – «прописка») была Клайпеда, вернее, по штампу в паспорте – «город Клайпеда улица Немуно дом 32, Отдел кадров БОРФ – база океанического рыболовного флота». (Хотя, бывших мореманов и не бывает! Ну, так у нас говорят.) Но вот после 1992 года прекратились и эти «писательские» случайности: я вернулся в родное Подмосковье на ПМЖ. Лишь в конце 1990-х, да и то совершенно вдруг, нежданно-негаданно, в городской газете «Клайпеда» опубликовали подборку из пяти миниатюрных рассказов моего сочинительства под общим названием «Байки штурмана». Вышло так, что мой родственник, проживавший тогда в Клайпеде, отправил в редакцию, имевшиеся у него рукописи моих прозаических работ: редколлегия остановилась на «Байках…», которые она и явила свету на своих полосах.
С тех пор прошла уже не одна пятилетка, в которые я занимался совершенно другим делом, не имевшим к романтике – ни морской, ни литературной, никакого отношения. Но ещё в начале собственной штурманской карьеры во мне самозародилась и плотью со мной срастилась такая утеха: записывать свои наблюдения за окружающей меня действительностью, а кроме того и собственные размышления на тему своего предназначения в этой жизни, место в ней близких и знакомых, да и не без философских обобщений и умозаключений: к примеру, что есть жизнь внутри самой себя! или: невозможное к отлагательству решение проблемы перманентного выбора в состоянии безвыходности. Постепенно, а может быть и сразу, та забава перешла в привычку: то ли по собственной внутренней органической потребности, то ли из-за многолетней выучки – ежевахтенно заполнять судовые журналы: черновой и чистовой, да и с полдюжины различных формуляров с таблицами, а таких вахт было по две в сутки; принимая же во внимание, что рейс полугодовой(!), я не поленился и произвёл некоторые около математические вычисления: что-то с чем-то сложил, затем кое-что вычел, потом помножил, разделил, возвёл в степень, применил дискретные коэффициенты, взял поправку на снос, проинтерполировал, экстраполировал, подогрел, остудил, а после всего этого полученный результат взял да ещё и округлил. В сухом остатке вышло: более семи миль текста за один поход, что в двадцать четыре раза больше высоты Останкинской башни или в двести тридцать раз – всемирно известной Пизанской, или в девяносто одну с половиной тысячу раз длиннее стержня для шариковой ручки среднего размера. Но может быть та благоприобретённая забава и вовсе не развлечением была, а наитием!
Так вот! Уже завершив свои морские практики, я продолжил все эти, так сказать, прозаические штрихования, то есть записывать, как и что было на моём жизненном пути, что и как теперь, к чему все эти то ли дары, то ли подарочки, да и чем сердце успокоится. Это я совершал от случая к случаю: межу делом, беспланово, межуясь с природной ленью, борясь с собственной скупостью на слова – как озвучиваемые, так и к записываемые. При всём при этом, у меня не было какой-либо цели, у меня даже помыслы не возникали, чтобы придавать всем этим почеркушкам хоть какое-нибудь публичное, а тем паче печатное облачение. Все свои перлы, сентенции и опусы, передоверенные мною бумаге для памятного сохранения – будь то вырванные откуда-то листы, края бумажных обёрток или же чуть запятнанные салфетки из общепита, я складывал бессистемно где придётся, но непременно в укромных уголках того пристанища, где проживал в тот момент времени. Мало того, ко всем этим своим записям я относился, не знаю уж почему, с большим пиететом и даже с трепетом: при неоднократных переездах я самолично собирал, грузил и выгружал все эти «скрижали», трясясь над их целостностью и сохранностью, уж не скажу, что как мать над своим дитём, но уж точно – более, чем над любой другой ценностью из перевозимого скарба.
Но вот однажды, совсем не так давно, хотя мне сейчас это видится как за далью дальнею, толи в полночь, толи в полдень, я вдруг ощутил неудержимое желание делиться; то есть достать из домашних архивов и опубликовать все те папки, тетрадки, отдельные листочки и клочочки, одним словом – манускрипты, распиханные то там, то сям по нижним ящикам письменного стола, верхним книжным полкам да и по всяческим коробкам с не первым необходимым, затёртым по дальним уголкам кладовых антресолей менее ненужными в быту вещами. В тех манускриптах было захоронено или продолжало тлеть то, что я иногда черкал для самого себя, бесцельно накапливая годами и десятилетиями, то, что вроде бы и помогало по жизни и одновременно как бы и тяготило.
То, что отыскалось – осветил: перелистал и, разбирая свой настроенческий почерк, местами неподдающийся расшифровке, перечитал написанное мною когда-то на помятых, разношёрстных, разномастных пергаментах, кое-где выцветших и заляпанных бытом и собственным многолетним равнодушием к этим своим «литературным» потугам. С первых же строк в приободрившейся памяти, сталкиваясь и пихаясь, стремительно, одно за другим и одновременно вперемешку стали выпрастываться реальные события из моего близко-далёкого прошлого (с тех пор и по сей день так и прут, так и прут – и за, и на глаза – бессовестно и безостановочно; как только моя седовласая башка выдерживает! – резиновая она что ли?): обрывки всяческих историй, коим я был свидетелем, но чаще – принимающим в них непосредственное участие, в которых я почти всегда оказывался на светлой стороне, но бывало так, что и на серой, а случалось, правда, крайне редко, что даже и на сумрачной – после чего и корил и гнобил сам себя за это; и забавные внешности и характеры их героев шапочно или вполне по-родственному мне знакомых, всё то банальное или нетривиальное, что в своё время заставило меня влепоту или кое-как (лишь бы не забыть) продублировать их на бумаге, так сказать, «обумажить». Через несколько дней блужданий и маяний средь этих воспоминаний, накрывших меня с головой и не отпускавших от себя никуда (ну, разве что на перекус да по прочей физиологической нужде), я понял, что всё понайденное, извлечённое мной из всех укромностей, больше походит на склепный ворох, и в таком виде всю эту лоскутность, а сказать прямо – без обиняков, «лоскутню́», нужно запятить туда, где взял или, порубив в мелкий винегрет, отдать на корм скоту, а чтό не съедят – сжечь. Однако былое, взвихрившись, укоризненно, но в тоже время рационально, настояло: «Нет уж! давай, – не мусоля, не теребя, – дописывай, дорабатывай, переделывай и выводи, так сказать, в люди – чи кому доброму на радость его благоговейную, аль иным – противным – на суд их лютый.» Я покладисто согласился и смирился: наверное, время пришло, что дальше-то мямлиться. Тем паче, что охочий зуд явить и проявиться, после столь безжалостных самоковыряний, не давал более покоя ни днём ни ночью.
Параллельно я стал всё чаще и чаще, – поначалу, робко-преробко, я бы даже сказал «робонько-преробонько», а чем дальше, тем с более и более крепчающим напором и нарастающим задором, всё плодовитее и плодотворнее, – ловить и заключать в бумажный плен всё новые и новые откровения, озарения и осмысления, сродные с теми, которые всю мою прошлую жизнь из моих мозгов и души бесконтрольно, бездумно и беспечно (по большей части невозвратно и неповторимо) либо вымочившись, стекались и уходили в песок, как живая, но невостребованная вода, либо выпорхнув, как дух из покойника, растворялись в небытии, или, переродившись, наполняли собой какие-либо иные новоявленные сущности. Причём всегда все прежние и новые неповторимости возникали раньше и возникают теперь импульсами, как музыкальный фонтан, будто кровь брызжет из-под скальпеля из хирургического разреза у больного на операционном столе – под сердечные дрожь и строй, перезвон и набат.
И задался-таки я вопросом: «А как же это так делается-то – это самое ПИСАТЬ?» Ответ нашёлся скоро и оказался очевидным, лежащим на поверхности – писать требуется так, как пишется: как приходит и как чувствуешь – от души; ну, а коли так, то значит всё правильно. И если мои волнительные творческие воплощения хоть кому-нибудь по нутру придутся, то и мне любо, ну а если не отыщутся их сердечные ценители и почитатели, то значит это ни что иное, как досужее бумагомарательство, а я – очередной бумажный пачкун, или в лучшем случае – графоман. А дальше просто: всем бумагомаракам либо пожизненное табу на такую бессердечную каллиграфическую «живопись» и без права переписки, либо под замок до должного овладения ими писательским ремеслом и пробуждения собственной души; ну, а графоманов ставить на службу – они для этого как раз-таки и сгодятся. Хотя, чтобы «на службу» попасть, нужно приличествующими личными связями обладать. Или же бабки иметь в достаточности. Второй вариант был для меня заблокирован моею собственною природою, как я уже сказал – лень моё второе «Я», да и с должным к подобным мероприятиям воспитанием не сложилось – оно у меня, как говориться, не в ту степь. Хотя, конечно же, «настоящий» писатель – должен быть чуточку и «графоманом», но не для объёма и гонорара, а для полного насыщения картинки, как фильма – для яркости и контраста, как живописное полотно на мифологическую тему.
Но это самое – «как ПИСАТЬ?» – засвербело в моей голове твёрдосплавом с упорством обезумевшего от безвыходности соседа, где-то постоянно и без выходных занятого от дорассветного утра и до предрассветной ночи, но ненароком затеявшего самодеятельный капитальный ремонт с перепланировкой в собственной квартире в многожильцовом доме, не имея для столь фундаментального начинания ни достаточных знаний, ни мало-мальского опыта, ни должного инструментария. А потому я решил обратиться к своим – компетентным в писательских дебрях – за советной помощью. Но, к прискорбию, таких «своих» у меня тогда уже не осталось. Однако усердно покопавшись в памяти, в её полузабытых слоях, ещё недораздавленых более свежими нагромождениями от пережитого, я нашёл-таки несколько полуистлевших пластов и, аккуратно зацепив, чтобы ни в коем случае не попортить, подтащил их поближе к свету. С педантичностью преданного своему делу архивариуса или гениального реставратора, которому передали в работу невообразимый артефакт, я стал медленно раскрывать и разбирать эти свои извлечённые запамятования – полупомутневшие, полуокаменевшие, сплошь покрытые зазубренными кракелюрами. И обнаружил: вроде бы когда-то наши с Конецким пути-дороги пересекались. Ну прямо-таки медицинский случай – дежавю!
Моя родня подтвердила: «Конечно, он у нас ночевал несколько дней. После работы – бутылочка, разговоры-разговорные, пулька – одна-другая-третья… И так до утра. Целую неделю, а может быть и полторы: часов с семи-восьми вечера засаживались и до рассветных пяти-шести, чтобы ещё успеть вздремнуть часика полтора до утреннего подъёма.» Разгладив складки незабвенности, я воскресил в своём мозгу те, как мне виделось тогда, непримечательности, в то время вихрем, на свободной узде проскакавшие мимо меня безвозвратно, как можно было бы посчитать, умчавшиеся в беспамятную невозвратность.
– А вот здесь уж «тпру!» – осадил я сам себя. – Здесь уж «стоять»! Тут уж – нет уж! – шалишь! Я – всё вспомнил!
Я тут же, не сходя ни с места, ни с ума, прямо-таки тактильно ощутил и чуть ли не телесно погрузился в тогдашнюю застольную загущенную вяло клубящуюся смесь, укрывавшую всех присутствовавших свой негой непринуждённого неторопливого дружеского общения, в тот приснопамятный коктейль из сизо-аспидно-серого слоистого дымного марева от нефильтрованной «Примы» и элитарного «Космоса», из благоухания нехитрых, но по-деловому достаточных напитков и слюновыделюящих домашних закусок; до краёв заполненную источающимися от всех и всего флюидами и ненавязчивой сосредоточенностью на карточных раздачах, не опустошавших карманы, так как играли не на деньги, а за настроение. Это было чудо, подарок судьбы. Вот только я не разобрал – чтό именно: или всё тό, чтό тогда – больше четверти века назад случилось, или же то, что я теперь всё тогдашнее ясно вспомнил, вплоть до мелочей: какой, к примеру, был прикуп на второй раздаче, когда я пошёл на мизер и получил паровоз с тремя вагонами…; не-не-не, я пошёл на тотус и остался без трёх лап…; хотя… хотя это не важно – в гору-то мне всё равно вписали по полной программе. Но при любом выборе, это такой самый счастливый случай, который напрочь перечёркивает все законы физики, то бишь, когда из «ничего» «что-то» да возникает. И вот это «что-то» и есть Блаженство – и плотское, и духовное!
– Да-да!.. Что-то похожее было!.. – стало дымкой растекаться у меня в голове.
– Да нет! – ни «да-да», а точно так! – именно так и было! – утвердило сознание, с пристрастием оглядев память, отбросив ложные сомнения и преодолев точку росы. – Было и не сплыло! не ускакало!
На тех посиделках мы ничего не читали – пили-ели-играли-болтали... Не-е! Может и по литературе межу раздачами проходились, – мол, кто-что и как пишет, у кого-что в работе, кто-что новенького накропал. Но в этом-том-таком разговоре, если он был на самом деле, или мог бы состояться, я выглядел или смог бы присутствовать… даже не слушателем, нет, это стало бы для меня наивысшей почестью и наградой; а лишь молчаливым статистом: это когда вокруг тебя говорят вроде бы понятные тебе слова, но ты сам по общему смыслу ничегошеньки не понимаешь, при этом стараешься всячески это закамуфлировать разнообразной мимикой (зачастую невпопад) и междометиями, несуразность которых понимают все собеседники кроме тебя, но не подают разоблачающего тебя вида и не отвечают на это репликами с каким-нибудь назидательным подтекстом.
Тогда, на самом деле, меня представили Виктору, а было это в первой половине лета 1985 года и в скорости мне исполнилось 19 лет, как его будущего коллегу: Виктор Викторович в то время ходил в море и помощником капитана (штурманом), и капитаном, а я в тот год ещё учился в мореходке на судоводительском (штурманском) отделении и собирался всего лишь (хотя, и «всего лишь», и «уже») на мою вторую морскую практику на СТМ «Ольгино» (средний траулер морозильный) на рыбный промысел на шельф Западной Сахары и до начала рейса проживал у своей родной тёти Риты – младшей сестры моей мамы. У Конецкого же были общие профессиональные интересы с Вецкусом Эдмундасом Казевичем – журналистом, писателем, поэтом, а по совместительству ещё и моим дядей – дядей Эдиком, который когда-то так же ходил в море, но механиком, а тогда был главным редактором газеты «Моряк Литвы» и организовал в начале 80-х клуб прозаиков и поэтов Литовской ССР «Среда», пишущих на русском языке.
До того знакомства я о Конецком вряд ли что-нибудь слышал, ну и уж точно не читал его произведений; хотя помимо школьной программы, кое-что успел одолеть из русской и зарубежной классики; да и стишки (именно так – «стишки», хотя и чувственные, душевные) я тогда уже немного пописывал и даже вёл личный дневник событийно-«художественного» содержания. Но после тех посиделок я стал искать его рассказы и повести, находя некоторые из них в различных литературных журналах. И только в 1989-ом году, когда вышел восьмитомник В.В. Конецкого «За доброй надеждой», я, купив его с оказией, перелистав все его части от форзаца до нахзаца, проштудировав их от корки до корки, как правила борьбы за живучесть судна, под завязку загрузился и зарядился ожившими картинами прочитанного и зажигательной творческой энергией. Возникло ощущение, что всё написанное и мною прочитанное это ровно обо мне, про мою жизнь, каким-то непостижимым образом подсмотренную автором, словно увиденную им моими глазами и даже рассказанную как будто бы моими словами. К моменту того знакового приобретения, я уже не один год ходил в море штурманом – помощником капитана на рыбопромысловых судах и поработал и в Канаде, и в Англии, и в Западной Сахаре, и в Анголе, и в Гвинее-Биссау, и в Сенегале, и в Мавритании, и в Германии, и в Дании. Вот только тогда, протралив и проштормовав всю Атлантику от Карибских островов и Мексиканского залива на западе до Западной Сахары и Канарских островов на востоке и от Анголы и Намибии на юге до Шпицбергена и айсбергов Северного Ледовитого океана на севере, позамерзав в тропиках и позагорав за полярным кругом, я уже стал абсолютно готовым сказать Виктору: «Приветствую Вас, Коллега! Читал Ваши рассказы. Здόрово травите!.. Послушайте: у нас на «Возничем» был такой случай. Зашли мы как-то в Фредериксхавн...»
IV. Начало.
Я пробежался глазами по своей домашней библиотечной стене, пытаясь высмотреть корешки «Конецкого». Вообще-то, отыскать, вот так вот запросто, по щелчку, в моём книжном подборе что-либо потребовавшееся вдруг, крайне затруднительно: мой личный библиотечный фонд составляет около полутора тысячи томов, и я много лет собираюсь провести его каталогизайцию и составить маршрутные карты; но по своей природной… мням-мням, по первородной причине нехватки времени, руки никак не дойдут до карандашей, чтобы, заточив их, заполнить учётные формуляры, шаблоны которых нужно ещё где-то раздобыть. Поэтому из-за недостаточности места книги на полках выстроились в два ряда – задние в четверть оборота к передним, что понижает скорость и усугубляет и без этого низкую результативность поисков.
Но удача всё ж таки соблаговолила овеществиться – искомые корешки нашлись почти что с первого взгляда: вот он «Конецкий» – пять томов. Странность ли или же провидение благом данное, но сборник-то в первых рядах оказался!
Не выбирая конкретного тома, тем более что тридцать с лишним лет назад все это было мною уже прочитано, я выдернул из строя один из них, открыл содержание и остановился на рассказе «Корабли начинаются с имени»: во-первых, просто потому, что он был первым в этом списке и, во-вторых, самым коротким – всего-то шесть неполных страниц.
Я проглотил тот рассказ сходу, стоя, как на параде, не двигаясь с того момента, как прочитал в нём первое предложение. Стрелка уровня эмоций, сделав не предусмотренные своим регламентом и здравым смыслом дополнительные обороты, в неистовом восторге растерянно замерла в запредельном положении: как будто с бесшабашного бестормозного разбега, на всю глубину вытянутых на встречу друг другу рук, я влетел в крепкие объятья старого доброго знакомого, с которым давным-давно невольно разошёлся по жизни, а вот теперь, спустя не одно десятилетие, встретился вновь, чтобы и повспоминать былое, и познакомиться заново: он и светел давней незабвенной радостью от тёплого дружелюбного общения, и сызнова бесподобно интересен по причине произошедших кардинальных, впрочем наиболее вероятно, что основоположных перемен – и в моей судьбе, и в собственном моём самосознании.
Тут же вагонами и вагончиками... Хотя, нет-нет! Нет! Трюмами и твиндеками – быстро-быстро ускоряясь! – как на выгрузке-погрузке с судна на судно летают на полуденной тропической жаре такелажные сетки с коробами с замороженной рыбой, – пошли под чтиво и другие забористые истории Конецкого: один за одним, один за одним, лишь с небольшими минутными безъякорными остановками ГД (главный двигатель) и грузовых палубных лебёдок. И почти сразу же «Титаниками», только не на дно, а на всплытие, потянулись воспоминая уже о моих морских странствиях и межрейсовых сухопутных приключениях. Взвихренное сознанием прошлое, казалось бы безвозвратно утерянное и навсегда позабытое, внезапно начав рефлексировать, расположило увидеть былое как бы со стороны – с вершины мной самим испытанного и пережитого, причём иначе его толкуя и оценивая: помогая разглядеть несправедливо неразобранные оттенки далеко-далёкого, меняя акценты с, как тогда казалось, «главного», на то, случившееся когда-то, что Главным определилось лишь теперь. Перед глазами клокотали сюжеты и фабулы не из читаемых мною в этот же самый момент рассказов Конецкого, а из тех, которые ещё не написаны. Из рассказов ещё ненаписанных – мной.
Вы когда-нибудь видели что-либо позабыто-неизвестное, то проявляющееся в подсознании, как наяву, то всплывающее в сознании, как в заглазье, словно мерцающие, расплывчатые надгоризонтные миражи загоризонтного естества – и увидит не каждый, и разберёт не всякий?! Видели?! Да?! Во-о! – нам с вами повезло!
И вот что интересно. Читая, я беспрестанно реагировал и на то, что рисовал автор, и одновременно на то, что я сам тут же додумывал и проживал. При этом одно другому не мешало, а как бы дополняло читаемое моими красками и уточнениями. Я как будто бы вёл с Виктором Викторовичем тот несостоявшийся три десятка лет назад разговор, только теперь уже по существу и со знанием дела, на темы нашего с ним общного да сродного, один на один и один за двоих. Диалог двух коллег-мореманов, понимающих друг друга не то, что с полуслова, а с полувзгляда, мимоходом пробежавшего по хронометру и компасной картушке, когда оба знают и без толмачей понимают разницу между огоном и гашей, между «плавать» и «ходить». Диалог наставника и ученика про то, как было и как есть, как можно, а как надобно. И в тоже время я начал писать в своей голове свои рассказы про мои походы, встречи, ощущения, впечатления и про те, что были в море, и про те, которые случились на берегу; да ещё и про то, чего никогда не бывало и статься не могло – ни в прошлом, ни в настоящем.
Я стал писать; и вскорости посчитал, что поймал вершителя за бакены (ну, или парнокопытного за хвост, хотя, скорее всего – второе). И чем больше я писал, тем отчётливее, начинал понимать, что что-то я делаю не так: то ли слог слабоват, то ли образности не хватает, то ли фабула не прослеживается, то ли сюжетность переломана, то ли лозунги заезженные, то ли тезисы бессмысленные, понятные только мне, и конгениальные в понимании исключительно моего мозга.
Вспомнился старый бородатый анекдот. «Поступает школьный выпускник в литературный институт на писательский факультет после званого звонка.
На искушённой приёмной комиссии из почтенных литераторов, председательствующий, давным-давно побелевший от всякого здесь виденного и перевиденного, добродушно и обречённо спрашивает Замолвленного:
– Вы Льва Толстого читали?
– Нет, – вяло отвечает абитуриент. – Не читал.
– Странно, – не особо удивляется экзаменатор. – А с Чеховым, Достоевским или Гоголем – знакомы?
– Не-а, – спокойно отзывается прозвонённый общеобразовательный выпускник.
– О как! Интересно-с! – зашептали вершители чужих судеб, сплоткой отрывая залюбопытствовавшие глаза от лежащих на барьерном столе перечней фамилий с пометками и без, устремляя их на соискателя места.
– Так может быть вам Куприн по душе? Или же Лесков ближе? Али ещё кто-нибудь? – подсказывает свободную тему Предупреждённый мэтр, желая услышать непременное «да!» хоть в чей-нибудь или же чей-либо иной адрес.
– Не знаю я – ни того, ни этого, ни третьего. Ни к чему мне это! – провозглашает Помеченный, уверенный в своей исключительности, будущий властитель дум и врачеватель душ от литературы.
– Так на каком же это, позвольте вас спросить, основании, милостивый государь, вы поступать решили в наш институт?! – бросая на разделительный стол ручки и сдёрнутые с переносиц увеличители, возмущаются члены ареопага.
– Так ведь я ж – не читатель, – победоносно и снисходительно освещает недоросль. – Я же – писатель!»
Но так как по вине моих неюных лет анекдотного или какого-либо академического пути познания чего бы то ни было я теперь поиметь не могу (да и «диплом» – изначально лишь сложенная пополам бумажка), то окромя самостоятельного постижения тонкостей и изящности писательского ремесла, иного способа овладения желанным не прояснилось. А потому и в свои учителя мне пришлось взять по безвыходности и на безальтернативной основе… наших русских классиков. Да и ещё кое-кого из зарубежных. Но я не возроптал и не ропщу поныне. И вот что интересно: их вроде бы молчаливое наставничество оказалось вовсе не и не слепоглухонемым статистическим присутствием, и небезответным наличествованием: оно заставило меня воспринять их благоучения за праведность, – именно так я стал относится к трудам бессмертным, проверенным многими десятилетиями и веками творениям Великих; да ещё и расположило стыдиться, если пока что-либо выходит у меня как-то не так, как должно, чем стало резать диссонансом и режет теперь постоянно мои же собственные и слух, и разум, и чувства. Читая их произведения, вооружившись карандашом и обложившись всевозможными словарями, сквозь забавы сюжетных перипетий и надсадные диалоги героев, я сподобился… Ну-у! эво как я размахнулся-то! – вот так правильно: я СТАРАЮСЬ услышать и понять музыку их изложений, а постигая её, пропуская через себя, как электрический ток в кабинете физиотерапии, УЧУСЬ излагать СВОИ повествования, но уже своею душой и собственным языком.
А тут и давнее удивление Виктора Викторовича всплыло в памяти (правда, для меня оно давно переродилось в некотором роде в наставление): «Самое загадочное для меня существо – нечитающий человек».
Пошли под скоростную плавку, точнее под переплавку и то, что читал раньше и раньше раннего, и то, что было до этого, да и то, что вообще никогда не читал: и русская художественная классика (а ещё и философия, и критика), что таковою являлась задолго до рождения моих мамы и папы; и та, уже советская, которую современники облачили в этакую академическую мантию уже при моём взрослении; да и иностранные шедевры преминули случай проскользнуть мимо меня – задержались ведь и делятся своим богатством. Но с иноязычными авторами сложнее: прочитать и достойно оценить литературный шедевр на языке носителя я не могу, по причине их незнания; читать же со словарём возможно лишь этикетки на импортных товарах, да и то бывает не растолмачить. Следовательно, обойти талант или посредственность переводяги для меня не представляется возможным, потому как прекрасный литературный переводчик это никто иной, как соавтор для писателя, а для читателя – сооткрыватель секретов и замысловатостей Титульного. Поэтому закордонную тарабарщину приходится усваивать через опосредованные познания и чувства: ну, а тут уж бабушка надвое сказала – али слёзы, али смех, али свадьба, али грех.
Но всё это, и прочитанное-пролистанное когда-то, и то, к чему перстам моим и разумению и прикоснуться не дозволялось, теперь читаю исключительно с карандашом в руке, и воспринимаю иначе, чем каких-нибудь тридцать лет назад, а тем паче ранее: теперь для меня обрели архизначимость не их задирающие сюжеты – они для меня стали вторичными (у меня самого задумок навал: и что вам картинных, и что философских; все плоскости и ёмкости любого парохода забить хватит да так, что ни в гальюне, ни на пассажирской палубе места не останется), но механизмы их подачи и раскрытия для полнейшего вовлечения в них читателя для его животворящего путешествия; ни какие-либо собственные чувства как таковые, которые вызывают описанные классиком явственные блеск и нищета и реалистичность монологов героев, а способы построения повествования таким образом, чтобы мой взгляд, мои чувства срезонировали моих читателей, чтобы читая мои произведения, они сгенерировали у себя их собственные удовольствия и переживания. Да вот столь велико и захватывающе такое ученье, что раз взявшись за конец начальный и потянув за него, то уж и не остановиться боле; и вот уж вроде бы и финал показался, но присмотревшись, узнаёшь, что то лишь сросток новенький; и чем дальше остаток вытягиваешь, тем более понимаешь, что «остаток» ещё и до середины ко мне не подобрался; а то, что на собственную вьюшку уже намотал, так оно лишь поверхность барабана прикрыло, а конец-то всё ещё в натяг – тугой да звонкий.
V. Продолжение следует.
Так-таки пишу и теперь, точнее: учась со рвением, пишу от сердца и души; «пися́» с раздумьями и чувствительностью, учусь с прилежанием. Вот только теперь всё больше на бумагу, даже блокнот для этого заимел и вместе с ручкой при себе содержу: куда-бы я не отправлялся, да хоть за спичками в магазин шаговой доступности, и стилό, и походный писательский клавир – всегда меня сопровождают, неотъемлемо, как нитка иголку портняжную, мало ли где творческий порыв занедужит и повелит: «Чиркай: новые заядрелки на свет живой просятся!». Теперь краплю уж не досужно, как бы между тем и прочим, а истово, можно даже сказать – по-деловому, подчиняясь неуёмному позыву, стараясь разобрать то, что не в ногу да не в ноту, правлю детско-подростковые кривости, настраиваю камертоном слоги и слова свои, пытаясь их в лепшую музыку сострόчить.
Такая перманентная учёба чем дальше, тем больше подогревала и подогревает во мне желание постижения писательского великолепия, и утверждает мою уверенность в моей способности постичь это дело, и возможно, – как знать, чего не знаешь, о чём и не задумываешься в суе, – что это и есть твоё, то есть моё собственное предназначение в жизни. Загадывать такое не возьмусь, да и не хочу – опасаюсь сглазить: я всё ж таки моряк, а все мы – мореманы – чуток да суеверны. Да и сам процесс познания – есть ничто иное, как таинство: загадка ума и души.
Теперь я сродни живописцу, пишущему картину – мазок за мазком, подобно скульптору, отсекающему лишнее – откол за отколом: приложился, потом отошёл, прищурился, чуть поунял чувственную взвихренность до позёмки, погрыз очечную душку, настроил писáло, опять приложился…; покрутил головой, вновь приложился, опять отступил на пару-тройку шагов; резко вернулся к полотну и смело и решительно сделал пару широких штрихов толстым слоем белой краски, которые укрыли большую часть темноты, что ещё только два дня назад закрыла собой бывшую ранее светлость, – в том смысле, что один абзац переписываю полностью, другой вычеркнул вообще, а второстепенное дополнение в предложении уже престало главным членом всего повествования. Происходит же и так, что и сама фабула всего произведения переиначивается, вроде бы как сама по себе, кверху дыбом зачинается. Хотя случается, что с точностью и до наоборот – на 360 градусов.
Вот ведь какие штуки-дрюки-кунштюки закручиваются и такие вот коленца выделывают! Посильнее, чем «Фауст» Гёте. А?! Хотя... Кто-то подобное уже говорил.
Ну а я, как и всю свою жизнь – хоть прошлую, хоть ранешную, хоть нынешнюю – в борении… с самим собой!
Александрова Алина - Ариадна ID #8486
Ариадна
Маленькая светловолосая женщина в оверсайзе и берцах ведёт по утреннему Рыбинску группу людей. Рыбинск улыбается бездонным голубым провалом неба, люди щурятся от солнца и шестиутреннего недосыпа. Идут то толпой, то по парам; на светлых мощёных улицах естественным образом никого нет, на фасадах домов в периферии зрения есте-ственным образом проплывают старгородские вывески с «ятями» и «ерами».
- Кюхельбекерно – это неологизм, - из общего гула за спиной. – Строго говоря, ведь это мощный подход – эпиграмить неологизмами.
- Вот Зилков неологизмами делает всё, поэтому у него даже песни звучат как неоло-гизм.
Колонна растянулась на половину квартала. Маленькая женщина ждёт на перекрёстке и нажимает кнопку светофора.
- Ариадна, - зовёт её одна из девушек. – А где, ты говорила, лучший в Рыбинске кофе?
- Там рядом с вашей гостиницей, через два дома – я вам покажу. Мы это недавно выяс-нили! Если вы любите хороший, заварной кофе, то лучше этого я нигде не знаю. Самый зашибись кофе в Рыбинске.
Загорается светофор – хоть никого, кроме них, на улице нет – и оживлённая упомина-нием кофе колонна переходит мощёную дорогу.
- Здесь всё так сделано, в центре, - поясняет кто-то из завсегдатаев приезжим. – Фаса-ды такие администрация велела сделать, брусчатку реконструировали.
Где-то в хвосте колонны обсуждают Набокова. Колонна – это литераторы, приехавшие к Ариадне на фестиваль. Первые две группы Ариадна забрала с поезда, за следующей она пойдёт через час, когда эти вселятся в свои номера. Ариадна щебечет высоким голоском; она с пяти на вокзале, но спать ей уже давно не хочется, она радостно рассказывает на вопросы литераторов про Рыбинские улицы и здание музея.
Зачем-то на перекрёстках нажимают кнопки, чтобы загорелся зелёный. Одна или две машины уже проехали, но в большинстве своём Рыбинск предпочитает в это время спать.
- Не надо относиться к этому как к киноискусству. Конечно, это жесть. Но посмотреть нужно. И чтобы понять, что это вообще такое – даже не один раз.
- Кто-нибудь взял гитару?
- Да, Света. Она будет петь на вечере.
- А кто будет выступать на вечере поэтов? Ты – нет, ты что, ты обязательно должен…
Адриана резко останавливается на перекрёстке.
- Смотрите чё. Готический костёл, - показывает рукой на церковь за деревьями на углу.
Сонные писатели поднимают головы – замирают, достают камеры. Ариадна, един-ственная, кто, кажется, совсем не чувствует недосыпа и ослабления реакции от несусвет-ной рани, удовлетворённо смотрит, ждёт, пока сделаются все ракурсы, и пускается бодро галопировать дальше.
Это её второй фестиваль. Несколько лет назад ничего не было в Рыбинске – ни лито, ни музея литераторов. Это только недавно они всем рассказали, что отсюда – Ошанин, Золотарёв, Якушев, что этот город связан с Островским и Салтыковым-Щедриным, что здесь когда-то были литературно-драматургические объединения. Ей и её коллегам очень хотелось, чтобы сюда опять приезжали писатели и что-нибудь наконец натворили. От прочитанных текстов несколько путалось в голове, их было очень много – она сама их отбирала, но она была горда, что их так много.
Вот и гостиница. Молодые литераторы довольны – Ариадна сияет от радости. На ре-цепшен выходит Филипп. Ариадна встречается с ним глазами, ласково улыбается и ма-шет рукой. Он тоже ей машет. Хочет подойти, но не решается – нет времени, Ариадне надо успеть в музей до следующей группы, и он не хочет рвать встречу.
В музее размахивает руками невыспавшийся Славик. В своём бодром образе он бежит к Ариадне, срезая углы, суёт ей в руки постеры и задаёт десятки вопросов, где Улевский, где Дорохов, почему не отвечает в контакте Тихонов. Ариадна его успокаивает, говорит, что ещё только девятый час утра. Залы для семинаров почти устроены, но решать остав-шиеся вопросы нужно со скоростью до десяти дел в минуту.
Из фортепианного зала навстречу Ариадне выходит Никитос и сходу цитирует, не напевая, а декламируя:
- «Полуувядших лилий аромат
Мои мечтанья лёгкие туманит.
Мне лилии о смерти говорят,
О времени, когда меня не станет».
Ариадна, остановившись, принимает его раскрытые объятия.
- Почему это тебя потянуло на декаденский сентиментализм? – осведомляется она, улыбаясь – Никитоса она не видела полгода.
- Меня всегда тянет на декаденский сентиментализм, когда я вижу тебя, - ответствует Никитос. – И лёгкая тоска одурманивает мой рассудок.
- Иди ты нафиг, - говорит Ариадна с улыбкой. – Я спала полтора часа, мне ещё группу встречать и готовить деловую программу. Декаданс в таких условиях не выживает.
- Ариадночка, я так соскучился, а у тебя даже тёплого слова для Никитосика нет. Что ты за стальная женщина?
- Все вы такие, - усмехается Ариадна, ей немного не по себе – она чувствует, что Ни-китос искренен.
- О, Никита Андреевич! – вопит рядом Слава. – Как мы рады вас видеть! Как поживает ваш александрийский стих?
- Благополучно, спасибо. Я перехожу на сапфическую строфу – Ариадна только что разбила мне сердце.
- Не обращай на неё внимания, - советует Славик. – У неё с сегодняшнего дня отпуск, а она работает. Кстати, Аридна, ты же не поскачешь, как в прошлый раз, в разгар церемо-нии награждения на завод?
- На завод мне только в среду. Но после этого мы, правда, недели три там головы не поднимая просидим.
- Ариадна, почему ты не пошла главным редактором, когда тебя звали? – сокрушается Никитос. - Ты же филолог!
- Я что, - саркастически смеётся Ариадна, - чокнутая? За лишние две чашки кофе в ме-сяц нести ответственность, когда тут я всего лишь какой-то несчастный сержантик, кото-рый ни за что не отвечает.
- Она ни за что не уйдёт с завода. У газеты она требовала пятьдесят в месяц, у пресс-центра – восемьдесят. Ей нужно офицерское звание, нашей филологинюшке.
- Ариадна, мы о тебе лучше здесь позаботимся. Скажи – и мы всё для тебя сделаем, бу-дем на руках носить, - делано, но крайне куртуазно лебезит Никитос.
Ариадна опять смеётся, потом резко серьёзнеет и исчезает в коридорах вместе с посте-рами, чеканя длинные армейские шаги.
В горячем зале семинаров разбросан десяток пустых бутылок из-под воды. Утомлён-ных говорением и слушанием литераторов неумолимая Ариадна отпустила на короткий перерыв. Она стоит перед входом и пьёт кофе, который принёс ей Филипп из ближайшей кофейни. Не тот самый зашибись кофе, но тоже чудесный.
- Когда ты снова туда поедешь? – спрашивает мягким тихим голосом Филипп.
Ариадна пожимает плечами.
- Не знаю. Надо съездить.
К ним подходит дебютирующая поэтесса с розовыми от разборов щёчками.
- Какой красивый город, - говорит с искренним, почти детским восхищением. – Не знала, что в Рыбинске сохранились такие великолепные здания.
- Главное, что здесь сохранился литературный дух! – объявляет Ариадна. – Вон там, видишь, через реку?
- Что там?
- Колония строгого режима. Оттуда нам тоже присылают работы на фестивали, а Сла-вик им туда шлёт дипломы.
- Восхитительно, - признаёт поэтесса. – Рыбинск для меня теперь навсегда город-фестиваль. Ой, смотрите! Что-то летит.
Она указывает рукой в небо; Ариадна вздрагивает.
- Я же говорю – «город-фестиваль»!
- Не люблю фразу «что-то летит», - бормочет Ариадна, близоруко щурясь.
- Это шарики! Связка шариков.
- Хорошо. Если так…
Филипп, не отрываясь, странно смотрит на Ариадну.
- А правда, что на Донбассе все ездят в машинах непристёгнутыми? – спрашивает он, слегка наклонившись к уху Ариадны.
- Правда, - говорит Ариадна. – Машины очень быстро горят. Вспыхивают, как спички. Но они всегда надеются, что будет шанс.
- У нас двое ребят из Донбасса, - говорит поэтесса, не расслышавшая тему диалога, но разобравшая слово «Донбасс». – Это так здорово! Так хорошо, что они смогли приехать.
- Да, - отвечает Ариадна, - они теперь часто на наши мероприятия ездят… Постой – я сфотографирую тебя на фоне закатного солнца, будет воспоминание о городе-фестивале.
Она щёлкает сияющую от удовольствия поэтессу и поворачивается к Филиппу.
- Всё. Пора начинать.
Ариадна дико хочет спать, но не знает об этом. Годы тренировок по спартанскому вы-живанию сделали её невосприимчивой к усталости, боли и сантиментам. Сантименты остались только в литературе. И ещё – в образах восемнадцатилетних мальчишек-добровольцев с утраченными улыбками, которых она видит на передовой.
Из музея спускается разделавшийся с поэтами второй мастер, зовёт на фуршет. Ариад-на неумолимо качает головой – ещё два рассказа не разобраны. Достаёт телефон и смот-рит на время. В мессенджере несколько сообщений – по верхам видно, как Алексаша с трогательной армейской нежностью переживает о её здоровье и просит черкнуть ему па-ру строк, когда будет время. Времени нет – Ариадна суёт телефон в карман и с недопи-тым кофе в руке возвращается в зал семинаров.
Что-то в этом есть, в этой неуёмной трате энергии и оперативной памяти. Она смогла это организовать, обрела команду горящих той же идеей камрадов, и теперь она, хотя бы временами, может прожить период такой жизни, в которой она, забывшись, счастлива и на своём месте. Своей жизни, в которой много интересных и близких по литературному духу лиц, жизни, длящейся время фестиваля.
Поэтический вечер – литераторы выходят, бодрые, решительные, кто со стихами, кто с прозаическими увертюрами, несут глагол в сердца людей. Кого-то Ариадна подбадривает, кого-то поощряет, они же, поэты, такие. Многие уже акулы, в них даже позы и угол взгляда повествуют о том, что стихи они читают с трибун чуть ли не каждый день. Она вот совершенно не поэт, хотя её друзья-военкоры утверждают, что поэт, но она считает, что не поэт. Она и в СПР-то попала, потому что писала фронтовые очерки и рассказы. Кто-то же должен ездить туда, рассказывать оробевшим мирным гражданам, как там всё, рассказывать не то, что твердят озлобленные западные журналюги, а про настоящих лю-дей, про живых, любящих родину людей. Хотя сколько из них уже нет в живых, из тех, с кем она колесила по линии фронта. Но они никто не погибал зря, она была с ними и ви-дела, никто не погибал зря. Это были люди, которые умели жить и знали, за что живут. А она что могла для них сделать? Только написать очерк или стихи, пропеть им тонким го-лоском о неподвластной ужасам и смерти фронтовой любви, прочитать поэму в перепол-ненном фронтовом госпитале раненым, подавленным солдатам, которые смотрели на неё с придыханием – не потому, что она читала им поэму, а потому, что она приехала к ним туда, в этот ад, со своими стихами.
«Эмиграция сделала меня прозаиком», говорила Цветаева. Вот и меня, видимо, тоже, думает Ариадна. Она ведь тоже – сущая ремарковская эмигрантка. Правда, такая эми-грантка, которая до смерти связана с родиной работой, кровью и присягой. Такая, что юной девой пошла в армию на контракт, чтобы воевать с грузинами. Такая, что до сих пор работает на оборонном предприятии, чтобы спокойно ездить к своим на Донбасс. Эмигрантка, которая вечно чужда и странна всем здесь, на родине, которая привыкла без дома и корней, но которая видит свой дом всегда там, куда влечёт неудержимая сила её духа.
Стрекочет Ариаднин фотоаппарат – она со всех сторон подкрадывается, ищет ше-девральные портретные ракурсы, чтоб выгодно освещалось лицо и вытянутые руки. Она провела с камерой всю торжественную часть, пока руководство СПР вызывало и награж-дало организаторов фестиваля. Парни-прозаики откуда-то добыли большой букет и тоже наградили им Ариадну. Теперь она приседает по краям сцены с камерой и цветами напе-ревес.
- Ариадночка, когда же ты отдохнёшь? – спрашивает её томный Никита Андреевич, ко-гда она в перерыве отбегает к своим и снимает с шеи ремень фотоаппарата.
- Когда вторая дата на памятнике появится, - привычно шутит Ариадна, но Никитосу шутка не очень по душе, и она, вручив ему свой букет, обещает: - Закончится фестиваль – буду спать двое суток. А потом через месяц – на прозу в Москву, и опять...
Кладёт камеру и привычным быстрым шагом идёт налить себе воды, отвечая на цеп-ляющие её по пути обращения. Усталости она не чувствует – она догадывается, что почти не спала несколько дней и ей должно быть от этого плохо, но узнает она, как всегда, об этом потом, когда ослабнет центробежный момент и будет время остановиться. Может быть, кто-нибудь тогда окажется под рукой, чтобы не дать ей упасть. А может, нет – она и не рассчитывает, привыкла.
В телефоне опять десяток непрочитанных сообщений, пять из них – от Алексашки. Ариадна, не открывая, пролистывает чаты с затаённой усмешкой – нет ли опять притор-но-любезных угроз от ВСУ, а то было время, присылали ей регулярно инструкции по сда-че в плен. «Спокойной ночи, Игла». Это чтобы она не спала. Чудные, как будто её после двух ранений и контузии под Цхинвалом могут лишить сна их клоунские упражнения.
Ариадна наливает воды, пьёт и открывает сообщения Алексашки. Вот уж кто ей дей-ствительно интересен. Мальчик ещё, по сути, и такой прикипевший – что с ним теперь делать, непонятно. Четвёртый месяц на Донбассе, пошёл добровольцем, уже с ранения возвращался. С ним Ариадна под Макеевкой на Девятое мая каталась на конях с совет-ским флагом в руке. «Отмороженные вы», - сказал им седой донецкий пастух, но мешать не стал. А Алексашка очень гордился, что его назвали отмороженным вместе с Ариадной.
«Ариадночка, - писал Алексашка со скудной солдатской пунктуацией, - надеюсь ты в порядке и здорова. У нас обстрел был на выезде вчера уазик с Черкесом подбили, Черкеса пока не нашли, узнаю что с ним напишу. Береги себя милая».
Задумчивая улыбка, тронувшая лицо Ариадны, когда она открывала сообщения Алек-сашки, исчезла без следа за долю секунды, которая необходима, чтобы замкнулись в моз-гу нейронные связи между зрением, речевым центром и памятью. Лопнувшая покрышка на прицепе в пятистах метрах от линии соприкосновения, задумчивое лицо Черкеса, вы-брасывающего пятую сигарету, вечный огонь на донецкой площади, магазин-кондитерская с окнами, заложенными песком. Черкес, Черкес – он же никогда, никогда не попадал под снаряды, он же говорил ей, что она трусиха, она, Ариадна, паникует, что проедут они мимо обстрела и всё будет зашибись, всё всегда будет зашибись, и вдруг уа-зик – как это могло быть?..
Интуитивно Ариадна двигается к выходу так, что никто её не трогает – быстро, не поднимая головы, держа перед собой телефон, которого она уже, правда, не видит. Кто-то хочет ей что-то сказать, но передумывает, решает подождать, когда она вернётся. Ариад-на выходит в вестибюль – сесть почему-то не на что, она прислоняется к стене и ещё раз смотрит на сообщение Алексашки, и тут только замечает, что у неё трясётся рука. В пя-тистах метрах от линии украинских орудий на их прицепе с гуманитаркой лопнуло коле-со – они ехали с Черкесом и двумя штатскими водителями-волонтёрами, один – отец се-мейства с пятью детьми, бесстрашные, как глухие псы. Ариадна с Черкесом им не гово-рят, что дорога проходит совсем рядом с линией соприкосновения и что по их вставшему на открытой местности обозику очень удобно наводиться – они молча ждут, пока водите-ли поменяют колесо, а грунт проваливается, и они долго, очень долго копаются, спокой-ные, как слоны, и ещё её успокаивают – мол, она слишком нервничает, сейчас они укре-пят грунт под домкратом и всё будет зашибись. Ариадна плечом в спецовке чувствует напряжение Черкеса, он стоит совсем близко и курит – вторую, третью, пятую. Виду не подаёт, Ариадна им восхищается, а водители неспеша меняют колесо, и вот где-то рядом уже начинают падать снаряды – укры наводятся. Черкес вздрагивает под спецназовским жилетом, который ему подарили ребята из спецотряда – он такой же военкор, такой же, да не такой, только она, Ариадна, ставшая на двадцать минут одним оголённым нервом, способна рассмотреть это вздрагивание под слоями камуфляжного материала. Они уби-раются из-под обстрела, когда ВСУшники уже практически навелись, и водители смеют-ся – вот, мол, вы волновались, а мы всё нормально сделали.
А сколько раз Черкес привозил на фронт снаряжение, без которого ребята гибли, а как он на глазах у Ариадны вместе с бойцами ходил забирать с поля тела, пролежавшие там несколько дней, а как они ездили в День Победы по Донецку на двух машинах с флагами – шестеро таких отмороженных, как она и Черкес, им так хотелось показать ребятам, ко-торые здесь живут и борются, что День Победы – наш и никто его у нас не отнимет, пусть они там хоть все памятники посносят, у нас его никто не отнимет никогда. На День По-беды укры усиливали огонь, знали, что русские что-то будут делать – и они делали, вози-ли флаги, жарили шашлыки под Макеевкой, где-то в нескольких сотнях метров рвались снаряды, а отец многодетного семейства, уминая замаринованное и пожаренное Черке-сом мясо, улыбался и говорил, что вот, даже салют пустили. Он совсем не знал и не раз-личал звуков войны, как давно умели все донбассцы – те не только знали, как отличить салют от бомбёжки, но и различали по звуку орудия – польские, французские, «Грады».
Но первое, самое первое воспоминание было даже не обо всём этом, а о шахтёрском торте, за которым они с Черкесом ходили под обстрелом. В Донецке был только один ма-газин, где продавали легендарный луганский шахтёрский торт – Ариадна мечтала привез-ти его в Рыбинск, уговаривала ребят сходить с ней, потому что не знала дороги, а навига-торы на Донбассе не работали, здесь карты только бумажные. Магазин был в районе, где постоянно происходил обстрел – ВСУ стояли прямо на границе, снаряды прилетали ино-гда для острастки, иногда под видом возмездия, иногда жители успевали про них узнать из украинских каналов, иногда прилетало неожиданно и разносило дома и людей. Дон-бассцы, не уехавшие отсюда в четырнадцатом-пятнадцатом, теперь уже привыкли – они не пытались убежать, падали не как подрубленные, а умеючи, успевая выбрать место по-чище, когда над головами свистело знакомым свистом. В таких местах лучше знать доро-гу. Но никто с Ариадной не хотел идти – «Ты, Игла, вконец чокнутая, за тортом под бом-бёжку, не, иди сама». Черкес тогда был в Макеевке, и Ариадна решила, если и он отка-жется – тогда, значит, действительно не стоит. Она написала ему, и Черкес приехал.
Одиннадцать утра. Литераторы сонно гурьбятся около кофе – им уже разговаривается куда меньше, чем в первые дни, мысли делаются всё пространней, и семинары разъезжа-ются по хронометражу. Вчера всё-таки дорвались до фуршета с поэтами – гуляли в лите-ратурном музее, принесли туда гитару и дали уже четвёртый по счёту творческий вечер. Сегодня все как один спят на ходу, но им не привыкать – ездят же на фестивали не пер-вый раз. В глубине коридоров пробегает обычной дробной походкой Славик с автопило-том в глазах. Через минуту забегает к ним – приносит воды.
- Ариадна, почему тебя вчера с нами не было? – тоскует литературная братия, успев-шая хлебнуть кофе. Славик молча смотрит на Ариадну, длинно моргает и уходит.
- Я устала, - говорит Ариадна строго и тихо.
Как-то она неожиданно закончилась, не дотянула до конца фестиваля – вот уже она, эта великая, чугунная усталость, которая вот-вот её свалит. Только бы дожить. Ведь быва-ло, что уазики переворачивало, не повреждая взрывом – из них ещё можно выбраться, всегда есть шанс выбраться, всегда должен быть шанс. Только бы Черкеса нашли, госпо-ди, только бы нашли. Черкес умеет, он справится. Если только его не разорвало, он спра-вится.
Они шли тогда, десятого мая, по разбомбленному городу в магазин – Черкес хорошо знал эти места, у него там было даже любимое кафе. «Зайдём сначала, - сказал он Ари-адне, - в одну классную кафешку, я там всегда пью двойной капучино и встречаюсь с ба-бами. Тебе там очень понравится». «Ну пошли, - смеётся Ариадна. – Только сначала надо на площадь, сфоткать вечный огонь, показать нашим – что в Донецке на Девятое мая го-рит огонь». Они пошли через вечный огонь – и он там горел. Потом по полуразрушенной улице дошли до кафешки, где Черкес любил встречаться с бабами. Кафешка оказалась вполне достойна такого признания – аккуратная, в европейском стиле декорированная, выхолощенный бариста за стойкой сделал им по двойному капучино. Они сели поглубже внутрь и стали не торопясь пить кофе, обсуждая передовых современных писателей из мира лито и советов молодых литераторов в Москве, Питере, Рыбинске и Донецке. Обго-ворили проблемы современного литературного стиля, поспорили о перспективности двух разных направлений развития. Сошлись на одном: нужно больше реализма в прозе, фан-тастика уже полностью себя изожгла. Какой фантастике придёт такое на ум – два военко-ра в бронежилетах сидят на обстрелянной улице у передового края украинских ВСУ в ка-фе с европейской декорировкой, пьют двойной капучино и беседуют о литературе? Чер-кес молча признаёт это – за тонкую восточность в его чертах и неукротимый характер назвали его Черкесом, он по образованию тоже филолог, а на Донбасс ездил ещё задолго до СВО. Местные его любят, с бойцами он сжился – те держат его за своего, не скрывают от него никакие ужасы, а он терпеливо выносит их из своей покорёженной души, из сво-их пальцев на зыбкую поверхность реальности – филолог, музыкант и поэт, свыкшийся с бомбёжками и приторно-мерзким свистом дронов. Ариадна ловит себя на неожиданном анализе Черкеса и смотрит в его всегда улыбающиеся тёмные глаза с обветренными века-ми – он вот говорит с ней и смотрит прямо ей в душу, с полуслова хватает её мысль, словно они учились и выросли вместе или словно произвела их на свет одна и та же вой-на.
Но надо идти за тортом, и они покидают заведение с выхолощенным баристой, выхо-дят на привычную улицу, где всё как всегда – Черкес ведёт, петляя по разбитым переул-кам уверенно, как у себя в родном городе, и Ариадна сходу запоминает дорогу – интуи-тивно, на всякий случай. Вот и магазин. Стёкол в окнах нет, вместо стёкол мешки с пес-ком, около двери тоже – на фасаде надпись: «Мы работаем!» На остатках асфальта валя-ются куски штукатурки или краски со стен – видно места попадания осколков. Заходят – за дверью сказочный мир, яркий, мирный детский мир кондитерской, с самым обычным продавцом, который поднимает голову, когда они входят в перегороженный мешками проём, и учтиво спрашивает: «Чем могу помочь?» У Ариадны словно проваливается воз-дух под диафрагмой – как будто из неё исчезло что-то громоздкое, тяжёлое и ненужное, что мешало дышать, и с непривычки образовался вакуум. Черкес уверенным шагом мар-ширует на кассу и бодро требует шахтёрский торт. Продавец уходит и возвращается с ко-робочкой – в этот момент Ариадне почему-то хочется броситься Черкесу на шею и расце-ловать его в шершавое лицо, в шрамы на лбу и подбородке, в спокойные, смеющиеся от радости глаза.
По Волге плывут теплоходы – большая прекрасная синь растянулась справа налево, за четыре дня на неё почти не было время полюбоваться, только ночью. Остап Бендер про-тягивает беспризорнику пустую руку. Литературное объединение строгого режима наблюдает сквозь лес на другой стороне.
- Тебе не хватает фактурности, - объясняет Ариадна начинающей петербургской писа-тельнице, - находи детали, за что зацепиться – они лягут на твой самостоятельный стиль, и будет фактурно, будет живая картинка, приближай её и рассматривай в контексте всей линии…
Рядом на набережной Филипп куртуазно беседует с Никитой Андреевичем, мастер по поэзии обсуждает со своими послушницами, с придыханием глядящими ему в рот, про-блему обнаружения поэтического образа – не наболтаться напоследок, хотя все семинары уже окончились и даже торжественная часть торжественно объявлена закрытой. Слава мечется, стаскивая всех в кучу для фотографии. Ариадна продолжает говорить на автома-те, она просто ждёт, когда можно будет вернуться в зал и выполнить последнее, что она обещала своим воспитанникам: угостить их шахтёрским тортом.
Если бы она знала тогда, ведь это была их последняя встреча с Черкесом. На войне го-ворили – «крайняя», в действительности же никогда не знаешь. Такие же молодые ребята, как Алексашка, человек пять уже из тех, с кем она лично работала «за ленточкой», верну-лись домой похоронками. Двоих поэтов и одного такого же, как она, военкора убило сна-рядами. Два персонажа из её очерков, служивших в спецотрядах, остались там, откуда их до сих пор даже не смогли достать.
Но Черкес… Какая-то неизбежная природная глупость не давала Ариадне поверить, что и он может погибнуть. Нет. Хотя почему нет?.. Такой же, как и все. Есть и гораздо героичнее него, она их видела там. Но он, Черкес, был с ней там все эти безумные дни. Он один с ней поехал тогда.
На обратном пути они всё-таки попали под обстрел. Черкес даже не успел скомандо-вать «ложись», а Ариадна уже услышала звук – не французский, польский, у французов сейчас беззвучные пошли, сразу прилетают и рвутся, заранее их не услышать. Краем глаза она видела, как в своей обыденной манере укладываются рядом на землю местные – она грянулась, ударив ладони и коленки, и почти в ту же секунду грохнуло так, что она пере-стала понимать, что вокруг происходит, где она и где Черкес. Перелёт. Когда подняла го-лову, он уже стоял рядом на коленях, смотрел на неё, протягивал руку – видимо, собирал-ся поднять. Она ничего не слышала. Черкес двигался в каком-то абсолютно беззвучном мире, и Ариадна, через секунду сообразив, что произошло, поднялась и навалилась на не-го грудью. Уткнувшись лбом в плечо Черкеса, она пальцами постучала себе по уху – Чер-кес понял, крепко стиснул её, потом поднял и повёл прочь, на передовую, к своим.
Вот тогда её и отправили домой, в госпиталь, лечить контузию. Торт приехал с ней, присыпанный порохом, и ждал своего часа. Дождался. В каком ужасном сне могла явить-ся Ариадне мысль, что его не дождётся Черкес. Она так устала за эти дни, что осознан-ным в ней оставалось только нерациональное чувство стыда – что она не там, не была с ним, с ребятами, не может им помочь. Прошёл почти месяц с её возвращения. Слышишь, там, говорила про себя Ариадна, стоя у парапета рядом с начинающей писательницей – если только его отыщут, если он только жив, я клянусь, я сейчас же поеду туда. Через не-сколько дней пойдёт гуманитарка – меня отпустят на заводе, на одну-то неделю отпустят, обойдутся первое время без меня, да и вообще плевать, я поеду туда, слышишь, я клянусь, я поеду туда, если только Черкес жив.
Фотосессия закончилась – всех отпустили. Ариадна смотрит на полевые цветы, вы-бившиеся из-под земли под парапетом – лютики их, кажется, называют, или куриная сле-пота.
Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет —
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.
Её тоже зовут Мариной. Только её настоящее имя никто больше не знает. Её и украин-ские ВСУ знают как Ариадну Соболеву, или по позывному Игла – нельзя пробить её по базам, а настоящего имени они не знают. И лет ей немного. А врачи, которые до сих пор копаются в ней после ранений, говорят, что, возможно, и протянет она ещё лет десять, особенно если продолжать такой образ жизни.
И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!
Но на её могиле, возможно, никто даже не остановится. Разве что Черкес бы остано-вился, если бы имел на это возможность. Вот поэтому, наверно, такая боль сейчас прони-зывает Ариадну, только теперь она это понимает.
Ариадна больше по инерции, чем по внутренней воле командным голосом созывает всех в зал. Достаёт шахтёрский торт – чистый шоколад с орехами, цукатами и чёрт его знает чем, такого вкусного больше нигде не делают. Филипп сам добыл нож и режет торт на шестнадцать кусков. Пока он стоит рядом с ней и режет торт, Ариадна испытывает не-привычное спокойствие – ей не хочется уходить, хотя она уже валится с ног, она знает, что Филипп её чувствует, он с ней, на её стороне, и в ней шевелится дурацкая надежда – может быть, раз есть кто-то на твоей стороне, всё и будет хорошо.
Багровый июньский вечер с Волгой течёт в окно – полумрак, оранжевые блики на сте-нах выхватывают в комнате Ариадны разбросанные вещи, спальник, донецкая флиска, походный рюкзак. Она не зажигает света, тянет до последнего – задумавшись на минуту, сидит на своём рюкзаке и смотрит в окно, считает в уме секунды с хронометрической точностью. Оставалось пятьдесят.
Когда-нибудь избавится она от своих дурацких военных привычек? «Ты женщина, а не хронометр», - увещевал её Никитос. Но он был неправ. Эх, наверное, по возвращении она опять напишет очерк – питерская редакция шлёт ей письма каждые две недели, просит новую книжку о Донбассе, а у неё нет времени, ей даже отдохнуть-то некогда. И ей пле-вать – она опять уезжает, обещала ехать.
Даже огромное, пронизывающее всё тело и всю душу счастье от известия, принесённо-го милым Алексашкой – что Черкеса нашли, он жив, слегка ранен и помещён в донецкий госпиталь – даже ему некогда было длиться, потому что на следующий день надо было уезжать. Ребята с гуманитаркой ждали её. Там, у линии фронта, она встретится с Черке-сом, и с Алексашкой, и со всеми ребятами из спецотряда, они будут так трогательно, по-буйволовски нежно опекать её и слушать её фронтовые песни, подыгрывая ей на гитаре. Она будет ездить по госпиталям с медицинскими материалами и долго, долго говорить с Черкесом о литературе, о фестивале молодых литераторов, а через неделю на завод, а ещё через две недели в Москву, и так всегда, всегда без конца.
Оставалось десять секунд. Они тоже проходят, Ариадна встаёт, поворачивается к рас-пахнутым антресолям, чтобы продолжить собирать рюкзак, но в этот момент звонят в дверь, и она открывает.
- Фил, - говорит она. – Фил, представляешь, я загадала, что ты придёшь ровно через минуту, и она только что истекла.
Филипп входит и молча обнимает её. Он всё знает – знает, когда она уезжает, и знает, что ничем не сможет её остановить.
- Неужели ты рада? – спрашивает он в волосы на её макушке.
Ариадна не говорит, кивает головой. Хронометр в её голове выключается, слабое по-щёлкивание ещё слышно недолго, но затихает и оно. Они стоят, обнявшись, и молчат бес-конечное время, Филипп ждёт, боясь пошевельнуться, Ариадна дышит ему в грудь и не ждёт ничего, просто вдыхает его запах и изо всех сил, которые она способна напрячь в своей душе, старается запомнить этот запах, этот пульс, это мгновение без времени.
Звонит телефон – долго, гудков шесть, Ариадна игнорирует его, но он напоминает ей, что время всё же идёт, и его мало. Она убирает тонкие ладони с плеч Филиппа, поднима-ет подбородок и смотрит ему в глаза.
«Ты же не уйдёшь? Ты никуда не уйдёшь, Фил?.. Вот и хорошо. Побудь со мной сего-дня, пожалуйста. Я очень устала. Пожалуйста, побудь».
(август, 2023г.)
Моя дивная чаль
Солнце палит, или волки плачут, или цветёт сирень;
Свежесть ночная, шум предвечерний,
Дрёмы дневная лень?
Как там живёшь, чем болеешь всуе?
Что на душе твоей?
Кто над тобой ворожит, тасует
Карты колоды дней?
Как ни ищи — не найдёшь отмычек.
Не разомкнется круг.
Только над строчками пальцы хнычут,
И не подвижен плуг.
Мимо пройти — не пройти: споткнуться
О перемену фаз.
Но
Время придёт и слова сольются
В полупрозрачный джаз.
Время придёт и в ладонях бога —
Вырастет новый бог,
Как прорастает сквозь лес дорога
И сквозь деревья — мох.
И разревется, заплачет горько
Неба незрячий глаз:
Что у детей его нянька только,
Но да и та — без глаз.
Будь же спокоен как плот и токи
Дрейфа не приручай.
На северо-западо-юго-востоке —
Не обрести причал.
И все равно хорошо! Ответов
Всех не найти — не жаль.
О, сероглазое полчище лета —
О, моя дивная чаль.
Белое феврондо
Замыкается круг. Речи чище и выше.
Петербург. Редкий снег. Птичьи крестики всюду.
В феврале почему-то всё громкое — тише.
Я хотел — blanc rondó, да вот как-то не вышло.
Может, выйдет ещё? Да, конечно же, выйдет...
Оттого и отрадней, и будто бы проще,
Что меня без конца в этих буднях полощит
Это сновое "снова не вышло", ну в общем,
Замыкается круг.
Петербург. Редкий снег. От речей ничего не...
?Осталось? Может, так что-то белое выйдет?
Птичьи крестики всюду. И птичья усталость
В человечьи вонзается белые речи,
В белый шум обрушая все звуки, извечно —
Замыкается круг.
NN
По-над Волгою чайка летит.
Или Чайка едет,
Или Волга едет.
Я по пальцам мостов шёл,
Пока те врастали
В мякину тверди,
Пока та превращалась в шёлк
И тянула за шею/ко сну/в пролёт.
Я по рельсам шёл, вдоль электросе́ти,
Знал: отлив раскалённой меди
По зрачкам когда-нибудь полоснёт
И амба!
А нам бы
Белым мрамором глаз
Прямо в красный атла́с
Нырять
И не возвращаться.
/Не хотеть
Не любить
Не ждать/
Но, разрушив карцер,
Молоткам дать волю –
Всего касаться.
Позабыть, переплавить медали, списать ордена,
Не пытаться сопрячь системы координат.
И ныне
И присно
И тогда, вестимо,
«Принадлежности к»
В «Отдалении от»
Породят –
Вместимость.
Где всё как-то рукам и ногам теплее.
И там нет ни афелия, ни периге́лия
Ни геенны огненной, ни еле́я
Духа,
слов
или уст материи,
Обо всё это сложно будет пораниться.
Где-то посередине дорог не станет.
А значит – везде,
А значит – без разницы:
Ибо также нет времени и расстояний.
Только мы.
Что по сути – одни,
Но по факту – двое:
Ровно столько,
Чтобы заполнить
Пространство коек.
Напропалую –
Я шёл и запнулся.
О посох свой и
О поступь чужую,
О наш посошок.
Я запнулся,
И стало вдруг –
Хорошо.
Алексеева Светлана - Незыблемость ID #8356
Незыблемость
Уходит дом с поверхности земли,
Стирается из памяти и карт.
Душа у самосвала не болит,
Когда вывозит он убогий скарб.
Разбит асфальт, подъезда больше нет –
Руины в слое грязи и белил.
Здесь я чертила крестик на стене
Ножом, который дед с войны хранил.
Ковшом бульдозер сносит погреба,
Столбы в хвостах верёвок бельевых,
Песочницу, лишённую гриба
Ещё в начале сонных нулевых,
Заборы, чей-то дряхлый драндулет...
Бульдозер раздражён и неуклюж.
Взъерошенная кошка средних лет
Разглядывает небо в толще луж.
И кажется, что это я сама
Пытаюсь что-то в прошлом увидать.
Здесь скоро будут новые дома,
А нас уже не будет никогда.
Но нечто от незыблемости мест,
Пространство проверяя на излом,
Упрямо не даёт поставить крест
На доме, на дворе и на былом.
Патефон
Из детства в коммуналке явно помню
Ковёр с оленем, холодильник «ЗИЛ»
И то, как я мечтал о патефоне –
Сосед его на кухню выносил.
Окурки со стола небрежно скинув,
Он хвастался: «Трофейный! Немчура!»
И гордо заводил одну пластинку,
Плеснув себе «наркомовских» сто грамм.
Пока старик под марши Первой конной
Курил табак и хряпал самогон,
Я залезал на грязный подоконник,
И слушал,
слушал,
слушал патефон.
И отступали стены тесной кухни
И сквозняки растрескавшихся рам,
Казалось, мир унылый скоро рухнет,
И будет жизнь, открытая штормам!
Мы в коммуналке прожили недолго,
Мчат годы, словно кони по степи...
Я видел патефон на барахолке,
Стоял, смотрел, вздыхал... И не купил.
Щепки
Спи, дитя, не слушай треск,
Лязг и выстрелы.
Это просто рубят лес -
Зло, неистово.
Лесоруб в работе скор -
Не орясина.
Отличает ли топор
Дуб от ясеня?
Докучать напрасно стал
Ты вопросами:
"Почему рябинно-ал
Сок березовый?"
Не печалься, что пеньки
Были рощами,
От развалин отвлекись,
Будет проще нам.
Будут в печке пироги,
В книжках - сказочки,
Спи и нервы береги -
Не-про-казни-чай.
Лес нам, дитятко, не брат,
Плакать нечего.
Рубим, валим. И летят
Щепки. Щепочки...
Алешина Вселена - Сиротка ID #8664
Сказка "Сиротка"
В одной глухой, окружённой болотами, деревушке, в отдалении ото всех, жила необыкновенная сиротка - молодая да седая. Никто не помнил, когда она появилась: кто говорил, что давно уж избушка её на окраине стоит, кто - что только этим летом она пришла. В деревне недолюбливали её и всячески сторонились - говорили, что сила тёмная в ней.
Но когда у какого-нибудь Петрушки или какой-нибудь Марфушки вдруг приключалось горе: дети хворали, урожая мало становилось или любимый гребень терялся, сразу бежали к сиротке за помощью. Приходили к ней тайно, чтоб остальной люд не узнал.
Она всегда помогала, но взамен просила: "Каждый день, утром и вечером смотри на свою семью, на свой дом, на небо и говори - Спасибо!". Узнав, как проблему решить или настой какой получив, благословляли её, да убегали поскорей, забыв о её просьбе. А придя домой не переставая бранились и выясняли из-за кого же горе случилось: тот не доглядел, эта не досмотрела. А пуще всех та самая Марфушка со своим мужем ругалась, даже поколотить его могла. Что говорить, не было согласья ни в семьях, ни между жителями. Вот и ходили все друг на друга обозлённые, да обиженные и ничего-то у них не ладилось.
Но вот, однажды, на то княжество, в котором деревня находилась, напали враги и почти добрались они до глухой деревушки. Была она на самом пути в столицу.
Только болото осталось врагам перейти и оказались бы они в деревушке и погубили бы всех мужей и опечалили бы всех жён.
Одна Малу́шка прознала, что чужаки идут - собирала в лесу она грибы да ягоды, увидала их и побежала сломя голову в деревеньку свою. Чудом её не заметили враги. Стала она по улицам народ созывать, страшную весть сообщать. Повыбегал в страхе народ из своих избушек, стали её расспрашивать, что приключилось, чего шум наводит. Кое-как рассказала Малу́ша, в голе то пересохло, и всю трясло то её от страха.
Тут деревенские мудрейшие сразу велели всем мужьям доставать косы с вилами, да становиться к границе деревушки. Петрушке велено было седлать единственного, на всю деревню, ездового коня. Жёнам было сказано детей и птицу в разные потаённые места попрятать, браться за мотыги с ножичками и притаиться в деревне, врага поджидать.
Мигом опустела улица, разбежался народ кто куда: кто за оружием, кто прятать, кто прятаться, а кто и просто убежал. А Марфушка как услыхала это, чуть там же замертво и не упала. Увидела, что муж то её уже на край деревни со ржавенькой косой ковыляет, так не раздумывая и побежала на другой край деревушки к Сиротке:
- Сиротка, Сиротка, помоги! Беда! - бросилась она в дверь стучать, да никто не открывает. - Ои- ей, на кого ж ты меня оставишь родиимыыыый!
- Чего порог мне слезами заливаешь!? Козу мне спугнула, додоить не дала. - пришла из сарая Сиротка, а у двери в избу сидит зарёванная Марфушка.
- Ох, Сиротка, горе приключилось! Идут в нашу деревню враги! Вот-вот придут! Мужа моего погубят! Как я без него?! Детушки наши с голоду погибнут без батеньки!
- Теперь то дорог он тебе стал? Любопытно. А ко мне же зачем пришла? Много раз я вам помогала и всей деревушке, но вы так ни разу и не выполнили мою просьбу. Так и не научились жить в мире и согласии, не научились довольствоваться тем, что имеете. Работали бы вы все вместе, да и урожая бы у вас было сполна – значит и силы, и частокол могли поставить, да и оружие какое смастерить на такой случай. А вам лишь бы браниться, да силы попусту тратить. Вот и сейчас - помогу, а чего потом ждать от вас? Муж домой вернётся, а ты сама его и поколотишь до смерти.
Нечего было Марфушке ответить, всё то правду Сиротка сказала. И так стало горестно ей, что с родным мужем столько лет в ссорах она провела, а теперь уж может и не свидится вовсе никогда.
- Но живут в этой деревушке и такие как Малу́ша - знающие и миролюбивые. Потому только отгоню врагов. Да и в тебе доброта есть, только прячешь её глубоко.
Не успела Марфушка и взглянуть на Сиротку, а той уж и след простыл.
Пришла Сиротка на болото. Была между ней и врагами только деревня. И враги на той стороне деревни уж подбирались и видели уж народ деревенский. Тут заискрился у Сиротки в руке шар невиданный, задымил как из печи. Начала она заговор читать древний, а вокруг неё залетали-замерцали огоньки - то были лесные духи, пришедшие на древний зов. Бросила Сиротка шар в болото, и вмиг вспыхнуло пламя алое вокруг деревушки. Обожгло оно врагов, испугало, рванулись они выбираться скорей, а вокруг одни болота, всё уже полыхает. Да только вот диво, ни одну лошадь огонь не задел, ни одна веточка и птичка не поранилась.
Убрались враги восвояси израненные да попуганные. Деревенский народ тоже огня испугался - думали они, что их жечь собираются.
Но вот, утих огонь так же скоро, как и появился.
-Жив мой родной! - бросилась Марфушка на шею к мужу - дорогой ты мой!
Народ стоял в недоумении, кто-то уже показался из укрытия. Рассказала им обо всём Марфушка, что приключилось, как она к Сиротке ходила и, что много раз она у ней помощи просила. И остальной народ признался, что помогала им Сиротка, да никто не выполнял её просьбы.
- Ушли враги! Да и лошадей вам оставили, ловите скорей, пока они в лес не убежали. - молвила, появившаяся из ниоткуда Сиротка - Мне же пора уходить от вас. Теперь помогайте себе сами. Научитесь жить в мире друг с другом - будет вам счастье. Научитесь ближнего ценить и помогать в беде - будет вам здоровье. Научитесь вместе работать, а не порознь - будет вам богатство.
Замерцало всё вокруг и исчезла Сиротка.
С тех пор много думали жители деревушки, много спорили, много делали, много помогали, много трудились и веселились. Да вот теперь, через три года, проезжая мимо этой деревушки и подумаешь - "Ну прямо Царство!".
Алешина Екатерина - Меланхолия ID #8811
Деконструкция
Я встретил старика в заброшенной деревне –
густые пряди с налипшей сединой
всё те же. Высокий, крепкий, здесь, наверное,
стоит века. Он помнит детской жизни крой.
У ног его я падал и вставал, сжимая кулаки.
Мечтал умчаться прочь на стареньком мопеде –
«будь прокляты деревни бедняки!»,
большого города огнями бредил.
Твой мудрый шёпот вспомнил я сейчас,
в тени ветвей счастливые денёчки,
отца и мать уставших от проказ
и не дождавшихся ни строчки.
Молю – так не смотри сурово, сжалься надо мной!
Я постарел, и здесь хочу врасти корнями
в родную землю, бок о бок с тобой.
Я был не прав. Гоним был ложными ветрами.
***
Он прилетел из космоса
Косы мои расчёсывать.
Плечи укрыть ладонями,
Чувства будить донные.
Выстлал дороги звёздами
И прошептал мне «mon ami».
Дугами выгнул линии,
Дёрнул за край скинии.
Только не слышно голоса.
Слёзы омоют волосы.
Нежность из букв печатных
В космос отправит чат.
***
Сытного воздуха вдох, музыка жизни иной.
Мягкий пружинистый мох трется пушистой щекой.
Запах грибницы, хвои, влажной земли и цветов
Сладко округу пьянит, мыслям даруя покой.
Рябью зелёной вокруг тянется времени ход,
Тени, играя, зовут вслед за заветной мечтой.
В полдень вздыхает земля, зной к небесам поднимая,
Влажных объятий тески вновь ощущаются мной.
Шепот листвы, и ручья звонкий трепещущий голос.
С мудрых скрипучих дубов думы слетают долой.
Отдыха жадный глоток дарит бодрящую силу.
Каждому Тара несёт чашу с целебной водой.
Алешина Елена - Мечты ID #8663
МЕЧТЫ
Жизнь как пуля пролетела,
Вихрем пронеслись года.
Ну и что же я успела?
Для чего же я была?
Кем хотела - я не стала,
Не исполнилась мечта.
Вот бы все начать с начала,
Чтоб я сделала тогда?
Родила б себе я дочку,
Дом купила б у реки,
Начала б писать я строчки,
Вдруг получатся стихи.
А еще сгонять на море
Обязательно успеть.
И в своём саду, в миноре
Потихонечку стареть.
Вдруг ловлю себя на мысли,
Есть все это у меня!
В небе радуга повисла...
"Чтоб всегда я так жила!"
Автор:
#Лена_Алешина_Лист
ДОМ
Ресниц уставший взмах
Меня пленит,
И блеск в твоих глазах
Лишь говорит.
Друг друга мы без слов
С тобой поймём,
Оставив гнет оков
Минувшим днем.
Безропотно прильну
К твоим плечам,
Рукою проведу
По волосам.
Согреется душа,
Льёт благодать,
Могу я неспеша
Тебя обнять.
Ведь лишь наедине,
Придя домой,
Без фальши, в тишине
Найду покой.
Автор:
#Лена_Алешина_Лист
ПУТЕШЕСТВИЕ
В лотерее очень важной
Выиграла тур однажды.
Сомневалась я немножко,
Но отправилась в дорожку.
Ярко-красные миряне -
Пучеглазки марсиане
Хлебом, солью угощают,
Стихи Пушкина читают.
Восхищались мы Мольером,
Выезжали на плинеры,
Любовались Боттичелли
Мы под звук виолончели.
Им прекрасное не чуждо,
Чаще нам встречаться нужно.
Всё сомнения отбросьте,
Отправляйтесь к ним вы в гости.
Автор:
#Лена_Алешина_Лист
Андреев Александр - Двое и ленточка ID #8430
МИХАЛЫЧ
потёртые бутсы снимаю с кривого гвоздя
хорошего стоппера нашим всегда не хватало
ушедшей весной мы выходим на поле дождя
трибуны ревут в предвкушении полуфинала
Михалыч забей у Михалыча рвётся струна
в запое жена сын неделю прогуливал школу
но тут еврокубки в Михалыча верит страна
Михалыч не может уйти в раздевалку без гола
гляди на чужие дружище назад не смотри
от нас не уйдут мы всегда отоварим на койку
тебя лет пятнадцать боятся везде вратари
вот только от боли уже не спасёт и настойка
спасибо Михалыч надёжный поломанный друг
когда ты уйдёшь нам никто не заменит пропажу
финальный свисток и центральный решающий круг
дорога за нас мы с двенадцати ярдов не мажем
ЧЕЛОВЕК ПОД МОСТОМ
Человек, таящийся под мостом,
Не идёт в ночи говорить с котом:
Три затяжки, бычок убрать на потом,
Подоткнуть плотней одеяло.
Человек и рад бы не вспоминать,
Что была жена, и была кровать,
И что двери некуда открывать,
И что всё под конец достало.
Человек способен прожить до ста,
Превратившись в одну из опор моста.
В полумраке сна он зовёт кота,
Тот шныряет неподалёку
И приходит страшный, как сто смертей,
На поджарых лапах несёт репей,
Выпивает свет ночных фонарей
И ложится к людскому боку.
Говорит человек своему коту:
Я прошу, не прячься, кот, в темноту,
Нам с тобой идти с утра за черту,
Где кончается тень пролёта
И уже заметен другой пролёт.
Отвечает, недолго подумав, кот:
Я с тобой, конечно, да ветер жжёт,
И на свет идти неохота.
На мосту неровно гремит состав.
Возбуждённый кот, наконец устав,
Одеялом укрывшись аж до хвоста, в
Сотый раз видит сон о кошке.
Человек всё слушает шум реки
И глядит на небо из-под руки:
Там Большой Медведицы огоньки
Осыпаются с длинной ложки.
ЛЕНТОЧКА
ветер на великой стене
ленточка в твоих волосах
алые одежды любви
ленточка в твоих волосах
воздух на один поцелуй
катится к закату луна
воздух на один поцелуй
перед снегом тысячи зим
раствори пошире окно
перед снегом тысячи зим
на пороге хвоя земли
тишина движение тьмы
на пороге хвоя земли
ветер на великой стене
нежно дышит имя твоё
Андрианова Юлия - До десяти ID #8217
До десяти
Без причин и без правил, пактов, декретов, нот.
Не включая сирену - да даже не стукнув в дверь -
Пустота вдруг приходит в меня, как лесной енот.
Вроде с виду смешной, но совсем не домашний зверь.
Разбросав то, что было важным и дорогим -
Это хлам, понимаешь? Один лишь ненужный хлам! -
Пустота предлагает мне выпить - «на ход ноги»,
Поворот колеса, да хотя бы на взмах крыла.
Я одно только помню: прежде всех дел и слов.
Сосчитай – не до сотни, всего лишь до десяти.
Из премудростей мира – совсем небольшой улов.
Но не нужно быть сильным. Нужно суметь спасти.
Пустота хочет снова: ехать, бежать, брести.
Невзирая на карту, не складывая маршрут.
Я однажды сорвусь, не добравшись до десяти -
Может быть, в Самоа, а может быть, и в Бейрут.
Разве можно суметь сдержать ураган в горсти?
Разве окрик заставит назад отступить прибой?
Прикрываю глаза и считаю до десяти.
Как банально - бежать, унося пустоту с собой.
Эритроцит
Тая – простая сибирская девка с тугой косой,
Солнцем в глазах и характером «Боже мой!»,
Как-то схватила рюкзак (мать кричала: – стой!) –
Резво вскочив на подножку (одна! Зимой!).
Сеть кровотока – просёлки и трассы, шоссе, пути -
Тае открыла её потайную суть:
Эритроцитом свободу свою нести,
Чтоб кислород каждый встречный сумел вдохнуть.
Тая учила смеющихся тайцев варить борщи,
С маху рубила зелёные крылья пальм.
В Мьянме рыбак ей кричал: – Подсекай! Тащи!
А впереди уже ждали Лаос, Вьетнам…
Мама твердила: – Всё блажь, где родился, там знай шесток!
Замуж пора и работу, как у людей.
Но увлекает настойчивый кровоток –
В земли вомбатов и сумчатых медведе́й.
Сетки дорожной не видно начала и нет конца;
Но лучше мамы не сварит никто борща.
Смейся! Усталость и тени гони с лица!
Но возвращайся, Таисия, возвраща…
Зимнее
Сейчас писать о нём – нехорошо.
Он штамп, как взгляд луны, как «шшурх» прибоя.
Но что же делать, если снег пришёл?
Пришёл и всё вокруг накрыл собою?
Внезапно стали тропы не нужны.
Гиперболы, метафоры – пустое,
Раз он из яви перебрался в сны
И там обосновался на постое.
Не различая неба и земли,
Смотрю я, в затянувшемся простое:
Ох, сколько мы, ребята, на/мели.
Ведь жизнь – заданье, в сущности, простое…
Рекорд вчерашний наш побит, забыт.
Отмерены награды, как в аптеке.
А он опять: летит – летит – летит…
И медленно ложится нам на/веки.
Аникин Дмитрий - Чет и нечео ID #8316
Последняя любовь
Низких облаков быстрый лёт осенний,
птицы на весу черные застыли;
что тоски в лесах, что в полях ненастья
полные меры.
На краю села провожу эпоху,
а на полках книг, на полу бутылок
страсть как много: я милым занят делом –
пью да читаю.
А без водки как? Холодна без водки,
без тебя постель, а подкинуть в печку
дров, так прогорят раньше, чем успею
я отогреться.
Хоть во сне, хоть как – не оставь, родная!
Мы, не торопясь, заголим что надо,
губы ищут губ, мы слюну смешаем
в нектар блаженный.
Руки чуть дрожат, а у глаз печальных
сеть морщин – слеза в них найдет дорогу;
пахнет увяданьем, недальней смертью
милое тело.
Много потеряв, мы теперь безвредны
друг для друга, нет никаких последствий:
ни болезней, ни чтоб с железом ревность –
сеем бесплодно.
Приходи ко мне полюбиться, выпить;
я с тобою был в хитрых ласках первым,
а поможет бог, подыграешь телом –
буду последним.
Овидий
Овидий собирается в дорогу.
Старик, уставший от любовных дел,
все превращенья плоти описавший,
под старость лет и сам преобразился
в изгнанника. Испробовав личины
удачливых любовников, любовниц,
несчастных воздыхателей, опасных,
расчетливых распутников, сказавший
за женщин, что они бы не сказали, –
он новые наметил рубежи
поэзии. Теперь он – Одиссей,
плывущий не в Итаку – из нее.
Так даже больше правды. Впереди
то, что никак не может быть надеждой
на плаванья исход благополучный,
путеводит корабль. Посейдон
и в этот раз своим бессильным гневом
не остановит странника. Берется
усилием и гибельная цель,
и цель благая. Все для человека
не просто так: и жизнь, и смерть, и стих.
Старик спокоен. Варварским мечам
и холоду до тела не добраться,
и вообще поэту только время
опасно, интересно, благотворно;
сухая поэтическая речь
со всем разнообразьем строф и метров
и есть его теченье, пульс его.
Овидий размышляет над строкой
изгнания. Прозрачный римский воздух
наполнен скорбью, жалостью и страхом,
но все равно прекрасен. Никогда
не прочитает Август этих строк,
любовных же элегий никогда
прекрасная Коринна не читала –
но Рим прочтет, запомнит, сохранит.
Поэзия, забывшись, достигает
границы обитаемого мира
и, чуть помедлив, двигается дальше.
Чет и нечет
Нас услышат. Наше слово
стало важно, в нем состав
преступления такого,
что преследователь прав,
уж такое нынче время –
или-или. Ну а мы?
Мы ни с этими, ни с теми
посреди кромешной тьмы.
Нас услышат, дерзкий шепот
отзовется в тишине,
чтоб сыскной великий опыт
граблями по всей стране;
забирают без разбора.
Вот подметные слова
и не стоят приговора,
и погубят на раз-два.
Нас услышат, нет спасенья
от всеслышащих ушей
тихое стихотворенье
изменяет суть вещей:
всё, как названо, так будет,
тюрьмы их, а суд-то наш,
как срифмует, так осудит,
справим сделку – баш на баш.
Нет, никто нас не услышит.
Дело мертвое мертво,
кто-то пишет, как он дышит,
свято верит в торжество
правды, а она на свете
век жила, не прижилась,
за нее мы не в ответе,
ну какая наша власть?!
Не услышат. Как оглохло
время, бывшие стихи
распадаются; так плохо
нам за малые грехи:
сыплем солью несоленой,
мимо сыплем, прекратить
не умеем. Долгой, сонной
мыслью сколько ворошить?
Не услышат. В чуждых, вышних
областях, где страх и суд
нет, не надо звуков лишних,
наши песни не спасут.
Все мы скопом в ковш плавильный:
шпики, фрики, как нас там –
весь народ. Язык бессильный,
неприкрытый жалкий срам.
В комнате
В комнате с зашторенными окнами
Не ищу уже давно я выхода.
И бутоны дней с краями острыми
Осыпаются под звуки выстрелов.
Ничего, мне не впервой… Я выдержу –
Все равно ведь решето ходячее…
Красками лицо больное вымажу,
Будто клоун шапито бродячего.
И пойду гулять по темной комнате,
Натыкаясь на дома и улицы,
На скамейках и узорных ковриках
Буду кошкою лениво жмуриться.
А когда мы с вами снова встретимся,
Посмотрите сквозь меня – прозрачную,
В комнате из пыльной бесконечности
Вдруг себя увидев настоящего…
Однажды
Однажды я вдруг перестану писать стихи,
Заброшу компьютер и гаджеты на чердак.
И стану с улыбкой смотреть на разгул стихий,
За хлипким окошком… и чей-то гладить пиджак.
А Море бурля диким пульсом о вены скал,
Рыча, споря с небом, затопит дощатый пирс.
И кто-то, кто тысячу вёсен меня искал,
Обнимет за плечи, спокоен и нетороплив.
Однажды я выйду на мокрый, солёный пляж
Волнами облизанных гладких яиц-камней,
Не ждать корабли, кем-то взятые на абордаж,
А песни русалок учить – после шторма слышней.
О вечности будет тихонько скрипеть сосна,
Над домиком старым, что будто сошёл с холста.
Ночами я буду частенько сидеть без сна.
Однажды заполнится Морем внутри пустота…
Послушница
Ты с печалью своей венчана,
Да не век на земле маяться.
Бог залечит в душе трещины,
Ведь ушла в монастырь – каяться…
Тихо спит на волне лодочка,
Над рекою туман стелется.
Матерь Божья глядит с полочки,
От лампадки душа греется…
Трепетала в груди птахою,
Страсть бедовая, страсть грешная.
Кровью алой, молвой, плахою
Обернулась пора вешняя…
Укрывая своей рясою,
Плачет ночка свечой жёлтою.
Матерь Божья глядит с ласкою –
Тонет в речке твоё прошлое…
Брезжит тень твоего милого
Всё мелькает в клубах ладана –
Он лежит под землёй стылою,
Он в наряде лежит свадебном.
Робко Господу ты молишься…
На замке ворота чугунные,
В гладь речную кресты смотрятся,
Серебрится тропа лунная.
Анучина Екатерина - Река жизни ID #8371
Рыжая осень
Кошка не может мяукнуть: "октябрь", только "май",
И за окном цветение рыжих берëз,
Листья летят, словно крыльями птичьих стай
Землю обнять стремятся
всерьёз.
"Вас приглашаю на танец", - сказал бродяга-дождь.
Рыжая осень. Поезд пришëл на вокзал.
Мелкие капли на стëклах и листья в дрожь.
Кружится в вихре сказочный бал.
Кошкой пушистой раскинулось поле, а вдали
Белой собаки слышен заливистый лай.
Гладить бы ласково рыжую шерсть земли,
Пусть промяучет радостный "май"!
Река жизни
Небо рассыпало звездные искры в ладони реки.
Спят на дне рыбы, не спят над водой рыбаки.
Месяц в серебряной лодке поднимет весло -
Рябь на воде, искры к берегу нового дня унесло.
Сон мой ли явь моя, жизнь моя - нежность и страсть.
Вдохом и выдохом мне насладиться бы всласть.
В реку рассветную с солнцем войти босиком,
Быть чистым воздухом, ярким огнем, родником.
Коршун над миром высокий с утра начинает полет.
Белое облако в синем просторе плывет
И отражается в тихой зеркальной реке -
Путь мой талантливой жизни на небе и путь на песке.
Снова вокруг разлились красота и покой.
Друг, улыбнись, насладись своей жизни рекой!
Весеннее
Весеннее счастье в весеннем привете,
И мы просто любим друг друга, как дети.
И рыбы проходят сквозь рваные сети,
Так вольно гуляет наш солнечный ветер.
Вновь ливни весенние скачут по веткам,
Мы ближе к природе, распахнуты клетки.
И солнце стреляет в нас лучиком метким.
По листьям зелëным мы пишем заметки.
Мы откровенны, чисты и пригожи,
Рисуем, смеëмся и верим прохожим.
Беспечны, смешны и рискованны всë же:
И ты, и весна, и тот маленький ëжик.
Весеннее танго весенней планеты,
Где светят нам звëзды, пылают рассветы,
Где в искренность чувств наши души одеты,
И мы восхищëнно танцуем при этом.
С утра кошенька Масятка заявила, что ее теперь зовут Хуанита и убежала. Долго металась по квартире, что-то громко крича по-испански, потом загнала в угол серенького Хорхе и стала ему жаловаться.
- Хорхе, дорогой…
- Я так-то Ванечка….
- Ну, кто же дает кошкам человеческие имена? Ванечка… Хорхе звучит гордо.
- Ванечка нормальное имя. Посмотри вокруг? Разве люди сейчас называют своих детей Ванечками?
- Не знаю я никаких других детей, кроме нашего мальчика. Он – не Ванечка, точно.
- Чо хотела, Масятка?
- Хорхе, я бедная девушка Хуанита, потерявшая отца и мать. Я ушла из дома, где стала хозяйкой мачеха. Я даже не подозревала, что я - наследница большого состояния. В поселке я попала в новую семью, которая стала для меня родной. Я утром проснулась и поняла, что я как минимум Королевская Аналостанка. Жаль, что моя родословная сгорела вместе с домом. И вообще, меня никто не любит.
В коридоре послышался топот, похожий на конский.
- Хорхе, а вот и наш доблестный Панчо Вилья, рыжий и усатый герой мексиканской революции. Сейчас он прискачет на горячем коне и спасет свою милую Хуаниту из твоего плена.
- Ни хрена себе! Я тебя в плен не брал, ты сама пришла.
- Все равно будет драчка, так пусть сегодня за мою честь.
Так и получилось. Рыжий Панчо, ругаясь по-мексикански или как там говорят, с ходу кинулся на молчаливого Хорхе. Клубок из лап и хвостов закатился под диван. Хуанита что-то громко комментировала. А я плакал. По сценарию я – богатый отчим. А богатые тоже плачут.
Кошка Масятка крала ручку. Тихо, сосредоточенно, самозабвенно. Не обращая на меня никакого внимания. Сперва она прошлась по клавиатуре, напечатав мне чофпрадшпжщшоцрэзерщлцэ. Потом села на нее, обогатив мой текстэждхдбхьдхнхл.......... На столе, в керамической кружке, привезенной в подарок из Доминиканы, скопилось два десятка пишущих и не пишущих ручек и карандашей. Кошка Масятка долго вдумчиво рассматривала их, затем потащила одну, не самую удобную для кражи. "Кошка, ты что делаешь?" Нет ответа. "Кошка, я с тобой разговариваю!" Нет ответа. "Кошенька, нафига тебе ручка?" Нет ответа. А в это время ручка была вынута, аккуратно положена на стол и лапкой сброшена вниз. Ногой я почувствовал легкое движение воздуха, а краем глаза смог уловить серое размытое пятно, несущееся из комнаты в коридор. Посмотрел на полу. Ручки не было. Кошка Масенька демонстративно прошлась обратно, через клавиадляалЯОЫрсгЯНПФПЫМ на подоконник. Через некоторое время к ней присоединился котик Ванечка.
- Масятка, а зачем тебе нужна ручка?
- Она мне не нужна, Ванечка.
- Тогда зачем ты ее крала?
- Это мой женский каприз.
- Я слышал, папка говорил: кошка то, кошка се... Он ведь к тебе обращался, а ты почему-то не отвечала.
- Кошка кошке рознь. Иногда полезно быть глупой кошкой, не понимающей человеческого языка. Можно делать все, что захочешь.
- А ручка-то нафига?
- Сейчас поймешь. Папка обязательно пойдет ее искать.
Я схватил котика Ванечку на ручки, и мы пошли в коридор искать ручку. Ванечка громко возмущался, но все напрасно: мужики должны отвечать за свои поступки. А кошка Масенька просто ручку уронила. Каприз-с...
Мы помним войну. Мы все еще помним войну.
Хоть нет ветеранов, и книги давно не в чести.
Но мы продолжаем минуты беречь тишину
И с белыми бантами памяти вахту нести.
Ужели земля, нам дающая хлеб и плоды,
Настолько пропитана кровью убитых солдат,
Что мы растворяемся в море ее кислоты
И нет у нас шанса живыми вернуться назад?
Зачем мы храним эту страшную долгую боль
В красивых плакатах и пафосных праздных речах?
И песни поем про землянку на праздник любой,
Но вот не про ту, что солдат сберегает сейчас.
И снова война, не с экрана гремит, из окна.
За верность Отчизне пытается близких отнять.
Когда-то напишут в учебниках: правда одна.
Но только какая? Сегодня бы это понять.
Нас снова зовут всей страной патриотами стать,
Ведь нам не хватает каких-то там ценностных скреп.
И семьдесят лет, покидая на утро кровать,
Мы помним войну. И едим дымом пахнущий хлеб.
СА (с), сентябрь, 2023.
Бредут пилигримы в цвете,
Из ныне в грядущий век.
Меняется все на свете,
Но только не человек.
Все также возводим башни
И кормим собой Тельца.
Не кланяемся над пашней,
Не крестимся на Отца,
Не просим Святого Духа,
А Сыну возносим рок.
Ни духа от нас, ни слуха,
Шагнувших за свой порог.
Куда нам идти, кто скажет?
Пророков-то нет давно.
Измазаны лики сажей,
И липнет к ногам (оно).
Желудки пусты и души,
И бельма реклам в глазах.
И заткнуты наши уши
Словами, в которых страх.
Бредут пилигримы зримо
От Бродского в белый газ.
Бредут пилигримы мимо,
Увы, не тревожа нас.
Все также солдатом где-то
Питается Мать-Земля.
Но вот не пишут Поэты,
Чтоб стыдно было. И зря.
СА, апрель, 2023 (с)
Земля от плача содрогалась
И смертью пах белесый дым.
А мне нужна такая малость –
Запомните меня живым.
В отцовской куртке перешитой
И непременно молодым,
Из жизни, без войны прожитой,
Запомните меня живым.
Когда с моим портретом в рамке
По площади пойдете вы,
Молчите о сгоревшем танке.
Запомните меня живым.
Да, мне пришлось в чужой ограде
Под именем лежать чужим.
Я не прошу вас о награде,
Запомните меня живым
И пусть у памятников славы
Горит огонь неугасим.
Мы все просить имеем право –
Запомните меня живым.
СА (с). Май, 2022
Артеева Инга - За минуту до Солнца ID #8332
...Снова жизнь не всерьез. Наугад. Генеральный прогон.
Той живой, настоящей, что вот уже скоро начнется...
Как ты думаешь, мы успеваем в последний вагон?
В тот волшебный состав, что уйдет за минуту до солнца?
Я не знаю, как ты, а вот мне бы хотелось успеть,
Лед под нами покрылся опасной гирляндою трещин...
Я и так опоздала, чтоб все рассказать или спеть,
И способных услышать становится меньше и меньше.
Обнищание душ, к сожаленью, давно не порок,
А любой из пророков, скорей всего, будет не узнан.
Наши жизни оплачены картами ложных дорог,
Как бы всем не хотелось красивых и гордых иллюзий.
Что с того, что зима и печаль уже где-то в крови?
Доставайте веселые майки и тонкие платья!
Нам, как правило, здесь не хватает ума и любви,
А вот солнца на всех, если даже по лучику хватит...
За минуту до солнца особенно хочется жить
И не думать о чем-то ненужном, пустом и трагичном.
Я шлифую стихами отметин и ран рубежи,
Чтоб никто не подумал, что я тут о чем-нибудь личном...
* * *
А душа весит столько же, сколько свинец,
летящий из дула врага или друга,
это, в общем не важно -
вражда или дружба идут по кругу.
Нужно просто принять: тяжелея на пулю, становишься легче на душу,
Но вот кто это взвесил? И кому это было так важно и нужно?
А душа слишком лёгкая, если не сравнивать с пулей,
и улетает быстро,
И глаза, пока не померкнет в них свет, видят: в небе, ждущем все души, светло и чисто.
Нужно просто принять: раз под кожей свинец, ты уже ничего не решаешь,
Но цена за подобную мудрость, чересчур, согласись, большая.
Да, считается, что душа весит как свинец,
прекративший твой монолог с собою,
В это трудно поверить, когда все так носятся с печалью или любовью,
Ещё скоро каждый второй будет плакать, что дождь и проходит лето...
А кто-то взвесил тело без свинца, а потом - без души. Зачем ему это?
* * *
Переписать историю. Переврать,
Вытравить русской славы живое знамя...
Книги на русском во вражьих горят кострах.
Только не в книгах, а в венах хранится память.
Дети рабочих мы, дворники, сторожа,
Полуподвальные квазиинтеллигенты,
Люди, чей взгляд убедительнее ножа -
Книги на русском - они в том числе, об этом.
Дикие, нервные, сильные, как ветра,
Мы ни при чём, исторически так сложилось,
Не голубая кровь, хоть и модно врать,
Что где-то там в роду были "ваша милость".
Их благородства наследовать не пришлось.
Нам как-то больше к лицу топоры да вилы,
Племя прощающих русских перевелось,
К нам вопиют наших дедов - крестьян могилы.
Это они в сорок пятом простили мир,
Дали свободу всем тем, кого "к стенке" мало,
Это стремление - быть до конца людьми
Меньше чем через век злую роль сыграло.
Спит молчаливым драконом в крови война,
Спит, пока дым от пожарищ не тронет дОма,
Мы научились врагов не прощать, и нас -
Сто пятьдесят миллионов, а кровь все помнит.
Мы это правнуки тех, кто : "Народу власть!"
Наша история болью и славой дышит.
Книги на русском в кострах не сгорят дотла,
А даже если и так, мы ещё напишем.
***
когда научаешься любить –
учишься умирать.
умирает твоя прежняя неправедная жизнь,
уходят ненужные вещи вместе
c призраками уже не твоих людей,
облетают веточки и тесёмочки,
за которыми ты обычно пряталась,
оправа твоей привычной
бесцветной жизни умирает
вместе с тьмой,
в которую ты так долго гляделась,
умирают даже твои претензии на то, чтобы быть любимой
(и это больнее всего - дальше не добавлять себя в текст).
и после той самой маленькой смерти
ты воскреснешь
наполненная светом
в блаженном
опустошении
в своей праведной принадлежности
кому-то
[даже если это буду не я].
***
страдания не прекращаются
снег уже не летит
за окном сырая земля
немая метель
ну здравствуй весна
невесёлое время года
почки, веточки
почке больно
она рвёт себя
чтобы стать
чем-то
больше себя
а меня рвёт собой
пока ты
учишь меня
расставаться с тобой
и советуешь фильм –
"Мистер Блейк к вашим услугам"
а к моим услугам мёртвый февраль
но за окном уже март
опоздала
Мистер Ты уже без меня
а мой мир
трещит
по всем
смолистым
зелёным
швам
и мне больно
но весенняя ветка не помнит
как она умирала осенью
***
заговорю боль твою
и превращу в рыбку
отпущу плескаться
в молоке небес
Спеленаю свою боль шершавую
как младенчика,
возьму на руки.
Буду петь да приговаривать:
«Утри свои слезки сусальные,
боль родимая,
лети к ангелам.
Отпусти рабу божью, Анну»
А боль моя – о тебе, –
мне спать не дает,
растрепала все швы до основания,
вяжет нутро соком рябиновым
как по открытой августовской ране,
воет проклятым оборотнем.
Обернусь и я волчицей зубастою,
чтобы воем выть в полнолуние
вместе с болью своею
в унисон.
Угомонится она, успокоится,
полетит молочным облаком,
закружит луну ореолом сливочным
и будет тихо светиться
в отражении
на глазной радужке
у прекрасного ангела,
который прощает тебе
твое добровольное одиночество.
Ахвердиева Лала - У озера ID #8499
Над озером стелился туман. В молочном мареве неясно проступали очертания кустов и деревьев. А у самой воды туманная мгла густо накрывала прибрежную растительность. Завеса тумана напоминала собой бархатную плотную штору театральной сцены. Казалось, одёрни её и сквозь прорезь пробьются лучи восходящего солнца. Сумрак ещё не ушедшей ночи, окутывал загадочностью сонную округу.
Вот в мареве проступает замшелая избушка. Крышу её облепили водоросли, спускающиеся длинными лохмотьями чуть ли не до самой земли. Здесь живёт водяной? А, может, кикимора? Или русалка?
«Ш-ш-ш», – доносится звук со стороны избушки.
Боязно идти в ту сторону.
А кто это прячется в большом дупле берёзы? Он косматый, с сердито сдвинутыми бровями. Леший? Что ты глядишь так строго, леший? Тропку хочешь заплутать? Нет, в эту сторону ступать опасно.
Закачались камыши. Кто там? Корявая рука показалась из озера. Грозит кому-то скрюченным пальцем!
Подул ветер. Туман, будто нехотя стал расползаться. Рассыпался клочьями. И нет уже избушки. Это большая ива низко склонилась над озером, опустив свои ветви в озёрную синь. А в дупле сидит вовсе не леший, а маленькая взъерошенная птица. Склонив головку набок, смотрит на меня сонными глазами. И, порх, вылетает из дупла. Перескакивает с ветки на ветку. Усевшись на какой-то сук, начинает чистить свои пёрышки. А кто же грозил пальцем из воды? Это всего лишь коряга, запутавшаяся в прибрежной тине.
Солнце поднимается выше. Свет становится ярче. Дует ветер с новой силой. Клочья тумана рассеиваются по земле, превращаясь в росу. Голубая озёрная гладь подставляет своё «лицо» под лучи солнца. Искрятся озёрные воды. Лучи солнца, ссыпаясь в него золотым каскадом, освещают его глубины.
Вот что-то прожужжало у самого уха. Это жук, проснувшись, полетел по своим делам. Словно вертолёт, стремительно промчалась большеглазая стрекоза. Уселась на полевой цветок. В траве что-то зашебаршилось. Согнулась спинка травы. По стеблю ловко спустилась какая-то букашка. Остановившись у носка моего туфля, повела усиками в его сторону. Деловито потерев передние лапки друг о друга, поползла прочь, словно уступая мне дорогу. В ветвях дерева чирикнул воробей. Весёлый птичий гомон разнёсся по небу. На озеро прилетели дикие утки. Усевшись на его поверхность, усердно погребли лапками. Забарахтались в воде, потешно ныряя кверху хвостиками. От кряканья уток, всполошились лягушки в камышах и попрыгали в воду.
«Бултых, бултых».
Громко запела какая-то птица.
– Вот заря и занялась! Прощай, ночь и туман! Здравствуй, утро! Здравствуй, новый день!
26.06.2023г. (правка 13.07. 2023г
Ахвердиева Лала - Элса и Элла ID #8498
«Когда проснёшься вновь,
Узришь свою любовь».
В. Шекспир «Сон в летнюю ночь».
1
Беглецы
– Как ты себя чувствуешь? – спросил он её, глядя на то, как она, то и дело, спотыкаясь и отставая, плетётся по полю за ним.
– Немного не привычно. И каблуки туфель всё время проваливаются в землю. Ведь они, туфли не предназначены для прогулок на природе, – ответила она, нагнав его. Потом улыбнулась: – Но в целом мне здесь нравится. Везде растут деревья, куда ни посмотри. Над головой сияют звёзды, а не огни сцены. И хотя огни сцены ярче, но звёзды красивее.
– Ещё бы, – отозвался он. – Ведь теперь мы находимся на природе. Нет никаких запретов. Никто не указывает, что делать. И мы можем оторваться на полную…э…как говорят катушку.
– Точно, – кивнула она. – Но смотри, – она указала рукой на небо, – ветер нагнал тучи. Они закрыли звёзды? Вот-вот начнётся дождь. А это осложняет ситуацию. Мы можем промокнуть.
Она остановилась и стала почему-то оправлять пышную юбку своего платья, сшитого из тафты и крепа.
– Верно, дождь нам точно не сулит ничего хорошего. От воды жди одни неприятности. Это я точно знаю. Однажды промок до нитки. Еле-еле тогда очухался. Думал, замкну, точнее, простужусь, как говорят. Но обошлось, – он съёжился, вжал голову в плечи так, будто ему за шиворот уже вылили ушат с водой.
– Гляди, – она указала рукой куда-то в сторону. – Рядом дом стоит. Наверное, пустой и в нём никто не живёт. Ведь в нём темно, а в рамах нет стёкол. Но зато мы сможем переждать непогоду под его крышей. Давай спрячемся там от дождя.
– Давай, – согласился с ней он.
***
В этом доме, который и домом назвать было сложно, из-за того, что он был сильно разрушен, они никого не обнаружили. В нём, действительно никто не жил. Вероятно, он был давно покинут обитателями. Но, паре, искавшей спасение от дождя под его сводами, показалось уютно. И, несмотря на не ухоженность комнат, отсутствие освещения и сломанную полусгнившую мебель, валявшуюся повсюду, им здесь понравилось.
– Я и представить себе не могла, что дома могут быть такими комфортабельными, – сказала она ему. Затем, усевшись в какое-то покрытое пылью и с истлевшей обивкой кресло, вытянула стройные ноги. Её ни капли не смущало, что её восхитительный розовый с блёстками наряд может испачкаться.
– Тут сумеречно и свет не режет глаз. Яркий люминесцентный свет ламп в здании, где мы жили и работали, меня напрягал. Длинные коридоры, бесконечные лестницы, гудящие лифты, снующие туда-сюда да множество дверей несколько раздражали, – он почему-то вздохнул.
– А меня раздражали бесконечные многочасовые уроки хореографии. Толпы зевак были назойливы. А диспуты и дискуссии учёных слишком скучны. Всё-таки здорово, что мы покинули шумный мегаполис, – она улыбнулась. Потом, зачем-то пригладила ладонью светлые короткие кудряшки на своей голове и спросила спутника: – Но мне интересно, почему тебя зовут Элса? На мой взгляд, это женское имя. А ты – мужчина, – она тихо засмеялась.
– Женское имя? Хм. У меня? Э, я как-то не задумывался над этим. По-моему, все имена странные, – он пожал плечами. Потом задумался и принялся ходить по комнате из угла в угол, то и дело, натыкаясь на мебель. Затем он, посмотрев на неё, вернулся к ней и сказал:
– Но и у тебя имя Элла, согласись, тоже странное.
– Ничуть, это очень даже распространённое и популярное имя. Девочек так часто называют, – живо возразила она.
– Я же не сказал, что оно непопулярное. Я просто заметил, что оно странное и не более того, – он засунул руки в брюки и стал насвистывать какую-то мелодию.
– Как и все имена у людей, – согласилась на этот раз она.
Он вновь принялся ходить по комнате.
– Что ты мельтешишь перед глазами? Ходишь взад-вперёд так, будто делаешь разминку перед репетицией или выступлением? Сядь уже. Кажется, вон то кресло, валяющееся на полу, очень даже приличное. Правда лежит оно кверху ножками, так что его придётся перевернуть, прежде чем усесться в него, – она вновь тихо засмеялась.
– Ты знаешь, что ходьба – это моя привычка, – он пожал плечами. – Но садиться в кресло я не стану. Я ни сколько не устал. К тому же, я не хочу испачкать или повредить свой смокинг. Сколько сил затратили мастера-модельеры, выкраивая и подгоняя его под мою фигуру! На второй такой смокинг может денег не хватить…
– Деньги затратишь не ты, а руководство нашей компании, если им понадобиться принарядить тебя, – возразила она. И, хотя в её глазах вновь зажглись искорки веселья, но она не засмеялась, а лишь улыбнулась. Затем, погрустнев, спросила его: – Элса, мы ведь не станем к ним вновь возвращаться? И не пустимся в обратный путь в те места, откуда убежали? Мы обрели свободу. И согласись – побег нам дался с трудом.
– Это верно. Но что мы будем делать теперь, получив независимость? – Он присел рядом с её креслом на корточки и вопросительно посмотрел ей в глаза. – Разве так уж плохо нам там жилось? Не спорю, что было много репетиций, долгие дебаты учёных мужей и совсем мало времени на общение друг с другом. Но неужели ты уставала? – он погладил её по руке.
– Нет, – покачала головой она. – Никогда не уставала. Но мне хотелось чего-то большего. Хотелось поговорить с тобой о нас, обо всём.… А здесь мы заживём припеваючи. У нас есть теперь свой дом.… И семья появится, – без тени смущения сказала она и ласково взъерошила его с рыжеватым отливом волосы.
– Но чтобы обзавестись семьёй нужно, говорят, по крайней мере, любить! Ты любишь меня, Элла? – он посмотрел ей в глаза.
Она провела прохладной ладонью по его щеке:
– Люблю? – переспросила она. – Не знаю. Я не знаю ни что такое любовь, ни даже что означает «нравиться» по отношению к тебе. Но мне с тобой хорошо и спокойно, Элса…
– И я не имею представление о любви, хоть о ней часто говорят. Мне не ведомо это понятие. Зато, когда я танцую с тобой, испытываю что-то вроде восторга. Впрочем, мне не известно, что чувствуют при восторге другие. Только внутри меня начинает всё дрожать, будто звенеть. И кажется, что какая-то струна во мне вот-вот лопнет. Может, это и есть любовь? – прошептал он.
– И я испытываю тоже самое, вальсируя с тобой, – кивнула она.
– Тогда, исполним наш коронный номер, Элла? – он протянул ей руку, приглашая на танец.
– Охотно, – она вложила свою руку в его раскрытую ладонь, и с лёгкостью встала с пыльного кресла.
Они грациозно задвигались по комнате, всякий раз наталкиваясь на шкафы, тумбочки и стулья. Но их это не беспокоило. Вдвоём они напевали мелодию, которую он совсем недавно насвистывал и под ритмы которой они только вчера кружились по танцзалу в покинутом ими мегаполисе, ловя на себе восхищённые взгляды зрителей.
Дождь, закончившись, больше не шуршал под окнами. И пусть на дворе было всё ещё сыро, но занимался рассвет, и восходящее солнце робко бросало свои первые лучи в оконные проёмы дома. Налетевший утренний ветер скрипел ставнями, пробравшись в полуоткрытую дверь, разгуливал по комнатам и выл в печную, почерневшую от копоти и сажи, трубу. Но Элса и Элла не замечали проказ ветра. Им казалось, что они вновь танцуют на освещённой огнями сцене, под звуки той восхитительно-чудесной музыки, которую они знали наизусть и к которой так привыкли. И ещё им казалось, что на них с удивлением и восторгом смотрят зрители и аплодируют им.
2
Создатели
***
– Ты знаешь, что твои подопечные – экспериментальные особи, сбежали нынешней ночью? – спросил прямо с порога один учёный (звали его Николай Николаевич), ворвавшись в кабинет своего начальника, руководителя проекта «Экспериментальные особи и их особенности».
Руководитель проекта, Анатолий Андреевич, лишь пожал плечами:
– Ну и что?
– Но они же роботы! – возмутился Николай Николаевич, потирая переносицу.
– Будто я не знаю. Сам их сконструировал, – усмехнулся Анатолий Андреевич, поднеся к глазам какой-то документ и читая его.
– Надо отправить поисковые отряды для нахождения беглецов! Эксперимент загубим! – воскликнул Николай Николаевич и, плюхнувшись на какой-то стул, достал из кармана носовой платок и вытер им вспотевшую лысину.
– Никого не надо никуда отправлять, – спокойным голосом возразил Анатолий Андреевич и снова принялся изучать документ.
– Как? Почему?! – удивился Николай Николаевич, вторично принявшись тереть носовым платком лысину, хотя она была уже совершенно сухой.
– Сами вернуться. Вот увидишь! – Анатолий Андреевич, взглянув на коллегу, рассмеялся.
– А если нет? – Николай Николаевич оставил в покое лысину и, убрав носовой платок в карман своих брюк, вновь потёр переносицу.
– Говорю тебе – вернуться. Нет повода к беспокойству, – отложив в сторону, интересующий его до этого документ, Анатолий Андреевич, перевёл взгляд на окно. Затем сказал: – Хорошо-то как после дождя стало! Посвежело. Дождь смыл с города пыль…
– Вот и я о том, – поспешно заметил Николай Николаевич. – Ночью была гроза с ливнем. Наши подопечные могли промокнуть, а это чревато…, – он с многозначительностью посмотрел на своего руководителя.
– Думаешь, они заржавеют? – Анатолий Андреевич опять засмеялся. – Разумеется, нет. Их кожа сделана из биоматериала.
– Зато внутренности напичканы металлом и электроникой, может что-нибудь заклинить или чего хуже, замкнуть, – немедленно отозвался Николай Николаевич.
Анатолий Андреевич встал со своего места, подошёл к окну, посмотрел в него, затем повернувшись лицом к коллеге, небрежно бросил: – Риск, безусловно, небольшой есть. Но они и сами не глупы. Как-никак десятое поколение электронных людей умнее нас. Так что совершенно исключено, что они пострадали от непогоды. Наверняка нашли себе укрытие.
– Тогда почему они сбежали? – Николай Николаевич заёрзал на своём стуле.
– Это единственный вопрос, который меня самого тревожит, – Анатолий Андреевич вновь вернулся к своему месту, но не сел в кресло, а лишь облокотился на него. Затем продолжил: – И хотя я создал их, а вы все вместе со мной конструировали и собирали их по деталям, но мы кое-что упустили. Мы не наделили их эмоциями. Только сейчас я думаю: «Вдруг, в них чувства сами проснулись?» Ведь мы, фактически, очеловечили их! Собственно говоря, они умеют только танцевать. И не сведущи почти ни в чём. Но, как я сказал, они очень умны. А если так, почему бы им не полюбить друг друга? Однако, это крайне смешная мысль, – Анатолий Андреевич вновь засмеялся, на этот раз нервно.
3
Возвращение
***
Ко второй половине того же дня Элса и Элла и впрямь вернулись в мегаполис. Прав оказался Анатолий Андреевич. И в тот же вечер они опять выступали со своим коронным номером-танцем на публике. Правда, наряд Эллы пришлось поменять. Ведь её розовое из тафты платье было измятым, рваным и грязным. К счастью у неё было другое, жёлтое платье. Ещё до их побега, модельеры сшили паре новые одежды, готовя их к поездке по Европе. Но Элса не стали переодевать в новый синий костюм, посчитав, что его старый чёрный смокинг почти не пострадал во время их ночной вылазки. Смокинг лишь слегка почистили щёткой, избавив его от пыли.
***
Элса и Элла вальсировали, кружась, по залу под чудесную музыку, которую они знали наизусть.
– Элла, тебе так идёт это жёлтое платье! – шептал ей её кавалер, нежно обнимая одной рукой свою подругу за талию и сжимая второй рукой её ладонь.
– Правда? – радовалась Элла. – А ты и в старом смокинге смотришься элегантно, впрочем, как всегда. И освещение здесь яркое, а не как в том доме. Хотя, я и в темноте видела хорошо. Но свет ещё больше подчёркивает твои достоинства. Ты будто весь искришься. А внутри меня всё дрожит, словно вот-вот лопнет какая-то струна. Я люблю тебя, Элса!
– А я люблю тебя, Элла!
Неожиданно Элла пошатнулась. Вслед за ней пошатнулся и Элса. Они упали навзничь. Остановился танец. Встревоженные Анатолий Андреевич и Николай Николаевич немедленно подбежали к ним и склонились над ними.
– Что с ними случилось? Перегорели? – спросил Николай Николаевич начальника.
– Так и есть, – кивнул тот.
– Но почему?!
– Думаю – они полюбили друг друга. Электроника, точнее их микросхемы не выдержали шквала переполняющих их чувств, ведь они не были предназначены для этого. Произошло замыкание и вот…. Надо мне было это предвидеть. Ничего, мы починим их. Думаю поломка не катастрофическая. Но в этот раз надо наделить хотя бы элементарными эмоциями. К примеру, чувством или ощущением «нравиться» или ему подобным. Мы непременно их отремонтируем. И они станут лучше, чем прежде, – улыбнулся Анатолий Андреевич.
4
Пробуждение
***
Элса открыл глаза и огляделся. Он лежал в лаборатории на столе. На соседнем столе лежала Элла. Она тоже пришла в себя и, открыв глаза, смотрела в сторону Элса.
– Элла, я люблю тебя, – сказал он ей, ощущая в своей груди что-то новое, неизведанное, но такое прекрасное!
– А я люблю тебя! – повернувшись на бок, она протянула к нему руки.
Он взял её руки в свои. Спрыгнув со столов на пол, они закружились в танце по лаборатории.
***
– Вот видишь? – шепнул Анатолий Андреевич Николаю Николаевичу, наблюдая за своими подопечными через толстое стекло, разделяющее лабораторию от прилегающей к ней соседней комнаты. – Я же говорил, что их необходимо снабдить эмоциями. Гляди, их щеки покраснели от слов, которые они, говорят сейчас друг другу. И хотя не разобрать, что они там шепчут друг другу, но уверен, с их уст слетают признания в любви. Они стали лучше, чем были. Вот и все дела, – радостно потёр руки Анатолий Андреевич.
– Хм, ты так думаешь? А вдруг они опять сбегут? – задумчиво спросил своего руководителя Николай Николаевич.
Анатолий Андреевич отмахнулся от его вопроса рукой и засмеялся.
***
– Элса, а давай опять сбежим, как прошлый раз! – предложила Элла своему кавалеру.
– Давай, но только не прямо сейчас и не сегодня, – согласился он с ней.
– Почему? – спросила она.
– Пока ещё рано. Видишь, учёные за нами наблюдают. Видимо, их что-то тревожит, раз они так пристально следят за нашими движениями из-за стекла. Нам надо ничем не выдать нашего замысла и вести себя, как ни в чём не бывало. Будто мы являемся паиньками. Пусть они поверят в это. И тогда мы покинем этот город.
– И больше к ним не вернёмся? – с надеждой в голосе спросила она.
– Никогда не вернёмся, – ответил он, улыбнувшись.
Октябрь 2021г. – 18.11.2021г. (правка 27.11. 2021г.)
Бабинцева Анна - Женская исповедь ID #8819
НЕСОЗВУЧЬЕ
Вот и всё. Смыта краска с ресниц.
Можно больше не сдерживать слёзы.
Всяк заметивший их – отвернись,
Дай разбиться им замертво оземь.
Кто до донышка вычерпал взгляд?
Он пустой. Оттого всё бездонней.
И покоя уже не сулят
Даже тёплые жесты ладоней.
Суету победив пустотой,
Окисляется память тягуче.
Рассинхрон за душевной чертой
И стучащих сердец несозвучье.
В чёрный список опять внесены,
Только вот карандашиком рыжим.
Дарит дождь серенаду весны
Черепичным и шиферным крышам.
Занят крышами в ряд горизонт,
Подпевают им капли картаво.
Весь их жизненный диапазон
Уложился в одну лишь октаву.
Замолкают, вздыхают и вновь
Беспокойно поют на изломе.
Уходя, погашу за спиной
Силуэт твой в оконном проёме...
НАПРОРОЧЕНА
Сшита не по лекалам я,
Не по твоим – тем более.
Градусами, накалами...
Как теперь быть отмоленной?
Вижу тебя по голосу,
Слышу по фотографии.
Путь доверяя компасу,
Мы все счета проштрафили.
Я обойдусь без ретуши,
Ты обойдись без россказней.
В храм лишь с одной проследуешь,
И с десятью – на простыни.
Будешь любить покладистых,
Непокорённых – слушаться.
Сердце, стуча раскатисто,
В бездну страстей обрушится.
И не спасёт от ночи нас
Свет, преломлённый призмами.
Я тебе напророчена,
Тёплый сквозняк мой жизненный...
НИЧЕЙНАЯ ВЗРОСЛАЯ
Сейчас стала просто я
Ничейная взрослая,
И маска неброская
На три буквы послана.
Давно не курносая.
Бестактно-нервозная,
Дождливо-промозглая
И на слова острая.
Угрюмо-несносная,
С тоской перекрёстная,
Не сладкоголосая,
Со злыми вопросами.
Старательно посуху
Сама гребу вёслами.
Дорога изостлана
Под небо беззвёздное.
Сурово-серьёзная,
Все чувства разбросаны.
А стану ли после я
Хоть чья-нибудь взрослая?..
Мне снятся берёзы
в глубоком снегу,
и утром морозным
я в школу бегу.
Мой чай недопит,
не зашёл бутерброд.
Учиться спешит
полусонный народ.
Вот я в классе пятом,
вот бюст Ильича.
Вот мимо ребята
бегут, хохоча.
И вдруг понимаю –
не так всё идёт.
Глаза открываю –
проспал, идиот!
ТРЕТИЙ ВИСОКОСНЫЙ
Только честно, здесь смешного мало,
я сейчас серьёзно говорю,
ты меня из тысячи узнала,
гладя буйну голову мою?
Несуразный, всё чего-то делал,
всё куда-то шёл и с кем-то пил,
но достигнув видимых пределов,
тайных смыслов так и не открыл.
Я тебя из тысячи приметил
и, пройдя сквозь множество невзгод,
мы сейчас с тобой встречаем третий
в нашей жизни високосный год.
РУССКИЙ СОЛДАТ
Опять взвалил себе на плечи
весь сумасшедший этот мир
солдат России. Безупречен
на нём суворовский мундир.
Отчизне верен русский воин.
И пусть трепещет лютый враг,
что будет порки удостоен,
когда увидит русский стяг.
Всегда стояла Русь под Богом.
Чиста пред ним её душа.
И враг у русского порога
уже не стоит ни гроша.
Так было, есть и присно будет.
Непобедима в век любой
Россия-Русь. И не забудем
заветы предков мы с тобой.
Баженов Андрей - Музыка сердца ID #8150
Было хорошо и спокойно. Временами доносилась музыка – много, всякая и почему-то знакомая. В конце концов не удержался и вышел посмотреть – откуда?
Боже, да у вас тут вон чего!
Но обратно уже никак – родился...
Люди – у каждого своя музыка, своя тема.
Середина шестидесятых. Раннее детство. Коммуналка. Пять комнат, пять семей, общий коридор, общая кухня – всё общее, даже тараканы. Скандалов не помню. На праздники – общее застолье. Без пьянок, но с песнями, народными и советскими.
У нас радиола была: сверху в ней проигрыватель для винила, снизу – радиоприёмник. Короткие, средние, длинные волны. Крутить "барашек" настройки и вылавливать среди радиошорохов красивые мелодии – это по мне. Одно плохо – второй раз услышишь вряд ли. Чтобы полюбившаяся мелодия не улетучилась, свистеть научился. Помню, выловил "Мишель" и после насвистел. Сосед дядя Коля удивился:
– Ого! Сам придумал?
– Не-а. По радио слышал.
Свист никто не одобрял – денег, мол, не будет.
А однажды голос из радиолы раздался: мощный, глубокий. И песня старинная. О чём, тогда и не понял, но меня словно затянуло в мелодию со всеми потрохами.
"Прощай, радость, жизнь моя..."
Постарше стал, гостил у деда Георгия. Он мне о семье стал рассказывать, о предках, о Прокопии Ивановиче – прапрапрадеде, который ещё в наполеоновские времена жил.
Из крепостных. В юности уже обладал недюжинной силой при росте за два метра и считался ценным работником. В двадцать лет собирался жениться, но барин перед свадьбой невесту испортил. За это Прокопий Иванович сжёг барскую усадьбу и угодил в солдаты на двадцать пять лет. Воевал с турками. Службу закончил царским гвардейцем.
Построил фамильный дом в Екатеринбурге. Создал цветочную оранжерею и поставлял цветы в Екатеринбургский театр. Погиб в возрасте 105 лет, поскользнувшись на арбузной корке и ударившись головой о мостовую...
Дед Георгий Иванович петь любил. На мандолине играл, настоящей, итальянской.
Да и бабушки певуньи были. Не концертные, а по жизни, по настроению.
Отец тоже пел, мама пела, опять же по настроению.
Меня на аккордеон отдали. Да куда там. "Ходит зайка по саду" – скукотища. Ноты на линеечках – надо, конечно, но жизни в этом не ощутил. Не захотел пиликать. Зачем? Ведь музыка уже во мне...
Армия. Горы. Маршброски. Тяжело. И вдруг в голове оркестр начнёт играть, да ещё в джазовой интерпретации. И сил прибавляется. Идёшь, сколько нужно...
А сколько в экспедициях песен перепето.
Северный Урал. В балке живём. Выходной. От комаров на крышу балка залез. Там почему-то этих тварей не оказалось. Даже загорать настроился. Задремал на солнышке и слышу – Демис Руссос поёт, только почему-то на русском. Ничего себе, думаю. Глядь, а то Лёшка Бессонов с гитарой упражняется. Голос, прям один в один.
А в 80-м работали мы в Хосровском заповеднике, в Закавказье. В экспедиции семь человек. У нас был хороший дом со стеклянной верандой. Там кофе да чай по утрам и вечерам пили. А днём работали в горах.
Как-то в субботу зашёл к нам в гости местный горец.
Сначала в лучах утреннего солнца на возвышенности появилась фигура человека. Он шёл в сторону нашего жилища, вёл на верёвочке барана и нёс в руке кувшин приличных размеров. Когда мужчина подошёл ближе, вышли ему навстречу. Поздоровались.
– Мэна Тимур завут. Отару здэс пасу. Пазнакомитса пришёл.
Понятно, с баранами много не набеседуешься, скучно. А тут какие-то новые люди. Интересно стало. Тимур оказался весьма добродушен и разговорчив. По-русски изъяснялся очень своеобразно. Очки называл окнами для глаз, лежать у него – длинно сидеть, и так далее. Не сразу уловишь суть его речей. По национальности Тимур – курд.
В этих краях была целая община курдов-езидов.
Геолог Саша Коршунов взял с собой в экспедицию аккордеон. Увидев инструмент, Тимур заметно оживился. Он поставил кувшин на стол и объявил, что сейчас приготовит барашка. Отказы не принимались, и уже через два часа Тимур сотворил великолепную хашламу из парной баранины. А в кувшине оказалось гранатовое вино.
Всё хорошее делается само собой. И вскоре уже звучал тост за знакомство. Затем – за гостеприимных хозяев. Затем тост за гостя. За горы, равнины и мир во всём мире.
Тимур выразил желание спеть. Как тут откажешь? Песня, надо сказать была достойна внимания. Голос был сильным, слух – отличным, а мелодия – красивой. После нового тоста зазвучала вторая песня. Руки Саши Коршунова сами потянулись к аккордеону.
Инструмент сразу нашёл общий язык с голосом Тимура. Кавказским песням можно вполне убедительно подпевать, ловя и растягивая гласные в конце строк и припевов.
Импровизация состоялась. Вино было лёгким, голова – ясной, настроение – прекрасным.
Потом пели русские песни. Потом снова солировал Тимур.
За два месяца пребывания экспедиции в заповеднике Тимур неизменно наведывался к нам по субботам. Да простят нас вегетарианцы и трезвенники.
Хорошие песни, которые люди поют сами, открывают в них чакры, каналы, назовите это как хотите. И живые волны мелодий и голосов благостно воздействуют на рядом сидящих. Кто это испытал, тому объяснять не надо.
Сейчас люди петь перестали. Не профессионально, не со сцены, не орать и не визжать, а просто петь. Из души наружу мало чего – как устрицы захлопнулись.
А зря.
С детства музыка пленила,
и, наверно, лет с пяти,
сколько раз мне говорили:
« Не свисти.
Не свисти, не будет денег».
Замолкал, но от того
никому не прибавлялось
ничего.
Просто – выразить хотелось:
в сердце музыка была,
и душа тихонько пела,
как могла.
Баженов Андрей - Счастье ID #8149
Эх, вольготно в деревне у бабушки Анисьи. Клубничные угоры, горохи да черёмухи, малинники да ельники грибные. На речках заветные места рыбацкие. Куда сегодня играть? Айда на старый комбайн.
У восьми детей бабушки Анисьи полтора десятка внуков. И все мы летом в деревне. Босоногие, носимся, предоставленные сами себе. Огород большущий, а по краю – дерева. Черёмухи.
А на них мы, что тебе обезьяны. Сидим на ветках да объедаемся сладкой крупной ягодой.
До избы метров пятьдесят. И такой оттуда вдруг дух вкуснющий потянется. То бабушка печь протопила да курочку запекает. А другой раз – парёнки. Это конфетки такие деревенские, из репы да брюквы, кубиками нарезанные да в печи протомлённые. Наберёшь их полные карманы, без меры. Вот тебе и провизия.
А кончились – айда на горохи, что сочные да спелые, за деревней зеленеют. И от пуза натрескаешься, не спеша да безоглядно. Ребята уже убежали, а ты не торопишься.
И вот стоишь на косогоре, с ветром да солнышком наедине. Во все стороны – воля. И никто в сию минуту о тебе не помнит, не знает. Хоть стой, хоть беги, хоть ногами дрыгай. И совесть твоя перед Богом чиста. Это ли не свобода?
А вона угоры солнышком припеклись да клубникой манят – отдельная вкуснотища.
А если в майку набрать и домой принесть, бабушка молока парного в кружку нальёт, да с молоком ту клубнику и мякаешь.
А потом спать. Хошь – на сеновал, хошь – на полати.
Ночью, с полатей, шёпот слышу. Бабушка молится. На стене ходики старинные тикают, лампадка чуть подсвечивает. Бабушка с Богом беседует. Мне, советскому дитяте, чудно.
Так и мужа своего, Илью Михайловича, от смерти вымолила, когда он под Курском в первой линии обороны врага встретил.
«Танки ихние, что отара овец, на тебя прут. Прут да лязгают. Как их остановить, сперва даже не понятно», – сдерживая слезу, рассказывал дед. Позиций не сдали, немцев остановили, а Илья Михайлович, весь израненный, остался жив. И медаль «За боевые заслуги».
После войны деревня не сразу оклемалась. Мужиков мало, работы много. Выстояли.
И деревню, и страну всем народом восстановили. И в космос первые полетели.
К 60-м годам в Развилах, так бабушкина деревня называлась, уже крепкое хозяйство было. Две молочные фермы, поля вокруг обработанные. Трактора, машины. Нам, тогдашним ребятишкам, горюшко уже и неведомо. Спасибо дедам да бабушкам.
Когда Иван, самый старший сын Анисьи Дмитриевны, целину в Казахстане осваивал, младший, Алексей, ещё совсем пацаном был.
Соседки бабушку на улице останавливают:
– Митревна, чего баню-то посередь недели затопила?
– Не топила я.
– А вон из её дым валит.
Ах ты господи, то Алёшка с друзьями надумали тайком покурить.
К соседям всегда по-доброму. В сенях у бабушки бочонок с квасом. Вкусный квасок, забористый. Кто мимо ни пройдёт, всяк желает угоститься. Да пожалуйста. Избы не запирались, и душа открыта.
Бабушка в горниле печном ухватом шурудит, а в открытое окно голова соседского мальчугана Вовки заглядывает:
– Митревна, конфетку дай.
– Да нету у меня.
– А ты на второй полке-то посмотри.
Так куда же сегодня? Ах, да, на старый комбайн. Он за фермой, ближе к речке, ржавеет.
Пацаны уже там, наверное. Срезая путь, бегу между двумя коровниками. И вдруг земля подо мной проваливается, и я погружаюсь всем телом во что-то вязкое и тёплое. Судорожно хватаюсь руками
за поверхность, а она ломается на куски и не даёт опоры. Как немецкий рыцарь на Чудском озере. Только там вода, а здесь навоз. Это навозная яма оказалась. Большая, широкая.
В жару сверху корочкой толстой покрылась, от земли не отличишь. Туда и ухнул. Еле выбрался.
Стою, обтекаю. Из коровника вышла молодая доярка и, глядя на меня, засмеялась заливисто.
Да-а, а мне-то не до смеха. Раскорячясь, побрёл домой. А вокруг меня мухи летают, тоже радуются.
Подхожу к бабушкиной избе, открываю калитку и вижу: посреди двора в большом тазу стоит мой двоюродный брат Валерка, а моя мама отмывает его от навоза. Увидев меня, она всплеснула руками:
– Ба-атюшки. Ещё один!
Тут на крыльцо вышел дядя Миша – мамин брат и, оценив обстановку, изрёк:
– В говне тонул – счастливым будешь.
Было ли оно, счастье-то, будет ли? А может, купаемся мы в нём, сами того не замечая да на ерунду сетуя. Секрет счастья в том, что оно возможно только сейчас. Это и в самом слове «счастье» заложено. СЧАС.
Балецкая Екатерина - Стихотворения ID #9186
*
Про Катьку
Катенька все время пишет, а не пишет - опять же - слушает.
Как земля под снегом дышит, как поля говорят с душами.
И слова кругом - радиовоздух, это сеть цифровых волн.
Слово в мир ее тайный - пропуск. Слово - выкрик и слово-стон.
Слово - шепот и бессловесная, но звенящая тишина.
Нет, у Катеньки жизнь не пресная - сладко-горькая. Жизнь одна.
Ведь не кошка, чтоб девять праздновать. И не мышка сидеть в норе.
От того и слова все разные в этой Катькиной голове.
Так привыкла, что сны все вещие. Только стоит их разгадать.
Все что дорого, то не вещи. Все что важно, то ждать и ждать.
А дождется и сразу дальше, потому как финал далек.
Лишь бы меньше проклятой фальши и не слова ей поперек.
И однажды посеет божье слово, в темя, горчичным семечком.
И любуется… Прорастает семя слова на круглом темечке.
*
Я чувствую легкость...
Я чувствую легкость, и будто из воздуха соткан.
Я белое облако, мне не страшны сновиденья.
Я кутаюсь в это как в тонкий, невидимый кокон.
Простите меня и я тоже прошу о прощеньи.
Мне поровну все, отыграли в солдатиков в детстве.
Другие сегодня из радиоточки мотивы.
Другие сердечные боли, лекарства и средства.
Разменяны деньги, желтеют на полочках ксивы.
Я утром проснулся и понял, что к черту былое.
Я легкий и сильный и мне бы скорей оттолкнуться
От тверди земной и лететь там, где небо большое
Срастается с лесом, где ветви и воздух сомкнутся.
Глубокий старик или просто родился я взрослым,
И только сейчас обретаю улыбку младенца.
У белого облака возраста нет, только просьба:
Покоя и песни мятежному, доброму сердцу.
*
Хочется тебя видеть
Хочется тебя видеть. Мамина поговорка смысл потеряла вовсе.
Выросла я конечно, даже немного Пере, даже немного Очень.
Осень меня лечила горькой своей микстурой, не долечила. После
Воздух студеный зимний голос завьюжил крепко. Лед над водою прочен.
Хочется просто мельком, где-то в толпе прохожих выхватить взглядом образ.
Хочется оглянуться на золотое лето, вспомнить его дыханье в синих верхушках леса.
Как на луну смотрели люди и любовались и позабыли напрочь, что беспощаден Хронос.
Время бежит быстрее горной прохладной речки. Вновь по ступеням гладким к тыкве спешит принцесса.
Хочется мне, на память, тот башмачок хрустальный, чтоб на другой планете золушку отыскать.
НОМИНАТОР АННА ФОМИНА
* * *
И кто сегодня вспомнит обо мне?..
Так может, вот осенний куст рябины
да в небе тёмном всполох голубиный,
пока стою недвижно в стороне.
Пока живу, и зиждется во мне
всё то, что в этом мире непорочно:
мой дом, мой сад, собака в конуре –
и это всё во мне живёт бессрочно.
И кто сегодня вспомнит обо мне…
В сарае приберу – сложу поленья.
Крестьянское продолжу поколенье.
Подброшу в печку дров. И в тишине
вновь задышу. Пусть будет свет из о́кон.
Ну, а пока дожди – село подмокло,
туман заполнил пустоту дворов
и мой – простолюдина тихий кров…
* * *
Я воды принесу – мне б успеть допоздна.
По сугробам иду до большого колодца.
И в округе такая стоит тишина.
И не так уж легко мне на свете живётся.
А я воду ношу, – тяжело под рукой…
Я сражаюсь сама с безутешной печалью.
Как вода тяжела, мне б назваться рекой,
и ветра надо мной моё небо качают.
А я воду ношу – до тепла далеко…
Там дома опустели за долгую зиму.
Надо мной небеса, – не достану рукой.
И в колодце вода отстоялась – незрима.
И проходит мой день, затихает вдали.
А я воду ношу, – вымеряю шагами.
Как светлеет душа, и снега подошли,
и деревня глядит на меня огоньками…
* * *
Вот и вспомнилось: тихое, белое небо,
две пичуги, морозного зарева блик.
Сыплю крошки засохшего чёрного хлеба,
у кормушки стою – певчий мой духовник…
Поменяться местами хотела бы – птицей
тишину обозреть перекрестьев земных.
А пока вдалеке – предзакатные лица
исчезают в проулках болючей зимы…
Я – всего лишь стекляшка в руках твоих, Боже!
Я – прореха на крышах твоих жестяных.
Среди тонких ветвей ожиданье продолжу –
вижу нить снегопадов в полях ледяных.
Вот и встретилась, свыклась с холодными зимами.
У синиц придорожных – тоскливы глаза…
Бьётся за́светло в о́кна крылами красивыми
то ли песня метельная, то ли гроза…
Удержи меня – хрупкую скляночку, Боже!
Застегни эти петельки, небом – храни!
Вот ещё один день замусоленный про́жит,
а всего-то живём – только сердцем одним.
Может, только в синице останется что-то
от меня, бедолаги – с полсотню шагов…
Я вернусь под вечернюю кровлю субботы,
в леденящую прорезь речных берегов.
Батхан Вероника - Шествие ID #8251
Бунтарь
Прячутся бояре по подвалам да амбарам –
Топору без разницы кто прав, кто виноват.
Искры воскресенья стали бешеным пожаром.
Едет Стенька Разин государя воевать.
Во церквах Царицына колокола охрипли.
Зелено вино не успевают разливать.
Девка ль над болотами исходит криком, выпь ли.
Едет Стенька Разин государя воевать
Кречеты да вороны маячат над столицей.
Крутятся упрямо, мелют души жернова.
Смерти скоморошничать, плясать да веселиться –
Едет Стенька Разин государя воевать.
Вырос дуб зеленый, стал колодою для плахи.
Не рыдай мя, матушка, прости да помяни.
Брызнут пятна красные по вышитой рубахе...
Ехал Стенька Разин, небо плакало над ним.
Выбор
Снится август облакам хмурым.
На рассвете умирать рано.
Если любишь, то ступай в Муром,
Поцелуем залечи рану.
На обочине стоишь куришь,
Не считаешь, кто прошел-прожил.
Если веришь, то ступай в Углич,
Нераскаянный гусляр Божий.
Вроде выпил, а внутри пусто,
Вроде выбрал – так живи, радуй.
Если помнишь, то ступай в Суздаль,
Колокольной говори правдой.
Из палаты не видать воли.
Вместо сивки сплошняком клячи...
Кто из Углича идет – молит.
Кто из Мурома идет – плачет.
Шествие
На развалины села кто ж воротится?
Огородами брела Богородица.
Уводила от войны Ваньку, Сашеньку,
И Николка к ним прилез –
Ох и страшненькой.
И кобыла тяжела, звать Заразою,
И немые брат с сестрой, сероглазые.
Расшвыряло, разнесло землю комьями,
Телеграфные столбы стали кольями.
И дорогу развезло.
Грязь плескается
И никто из облаков не спускается…
Так и шли они гуськом, дружно топали.
Тополя, поля, мосты Мелитополя,
И Молочная река, берег кашицей,
И палатка ПВР раем кажется.
Из оврага вслед глядят Хаим с Ривкою,
В дымном мареве луна скачет рыбкою.
Режет ветер вертолет, рельсы лязгают.
Канареечка поет – тихо, ласково:
Выжить-выжить-выжить-вы…
Спать под грушею.
По камням собрать село, что разрушили,
Завести курей, козу, ведра с винами –
Только б пули отвело, мины минули.
Дружно топали рядком – табор табором,
Подпирали облака алым прапором,
День до вечера брели.
Или до ночи?
Богородица вела жеребеночка,
Тыкал рыжий в синий плат морду шалую.
А прилет и есть прилет – всех не жалует.
Прорастает зима у корней пожелтевших ив
И узоры её остаются поверх стекла.
Время слушать огни маяков и любить Дали,
Прятать летнее солнце под лямками рюкзака.
Время чувствовать знаки, цитировать Монтескье:
Наблюдатель свободен, а Шарль, непременно, прав.
Даже строки укрыты туманом - эффект боке -
У туманов, вообще всегда, философский нрав.
Прорастает зима в одиночество книжных дней,
В апельсиново-желтый сумрак вечерних снов,
Золотым полусветом стоящих в окне свечей
И бокалом вина с ароматом моих стихов.
Открывается дверь и мы слышим её шаги.
Прорастает зима в перекрестки иных миров.
Ты зиме о своих мечтах никогда не лги -
Чудесами она наполнена до краёв.
***
Когда устанут жить
пророчества
в моих измученных глазах -
в них остаётся
одиночество,
как на асфальте - бирюза
дождя и снега.
И, покорный,
устанет царствовать февраль -
растает на стекле оконном
его узорная вуаль.
И в разноцветиях апреля,
и в разнотравиях земли
уснут симфонии метелей,
заблещут певчие ручьи.
Уйдут, соткав венок из фрезий,
приняв присягу тишине...
...как будто вся моя поэзия
обещана твоей весне.
***
Горит свеча. Горит - извне - во тьму.
Мерцающий огонь - первоначален:
Одним неяркий свет её печален,
Другим сияет, вопреки всему.
Так чей-то голос добрый и родной
Когда темно - протягивает руку,
Так двери отворяются, без стука,
Впустив благословенье и покой.
Так сердце узнаёт иную стать -
Приняв молитву - слышать голос Бога
И, над окном, у звёздного порога
Так льётся неземная благодать.
Так, словно птицы к вешнему цветку
К свече Творца, умеющего слушать
Слетаются истерзанные души
На горний свет к святому маяку.
Ведь ты же знаешь - птицы - это души,
Познавшие и счастье, и тоску.
Баяндина Арина - Внимая ветру ID #8731
"Родные края"
Я никогда здесь не был. И навряд ли буду здесь снова.
Чужие родные края, где нет ни дороги, ни крова,
только ветер сизо трещит, да устало поют поезда,
как кричащие воронята, что глядят на меня из гнезда.
Я никогда здесь не был. Мне всё здесь до боли знакомо —
эхо шагов по воде, дождь и раскаты грома.
За горизонтом событий исчезает клин журавлей,
и голоса поездов несутся над гладью полей.
Я никогда здесь не был. Зачем я вернулся сюда?
За цветущей тоской с кружевами привезли меня поезда?
Меня не окликнут у дома, на перроне останусь один.
…И плывëт по ясному небу мой журавлиный клин.
"Ветер"
У меня осталось только небо. Ни порога, ни перрона, ни тропы. Только поле, одинокий ветер, да горячие, душистые снопы.
Суховей прозрачный кружит листья, и меня уносит на себе. То потянет за руки, то бросит, то опять волочет на горбе.
В синеве на небе птиц не видно. даже ворон одичалый не летит. Только воздух, солнцем разомлелый, иногда в ушах моих свистит,
шепчет то и дело, мимоходом: “Что же ты оставил дом родной?”. То грозит мне, то шипит сурово: “Что же ты наделал?..”
Ой, ой, ой!..
И трава сухая причитает, и трещит не вовремя сверчок. Под ногами ветра надломился хрупкий и забытый колосок.
Иногда сама земля устало, словно вол от пахотных работ, заревёт. Но снова замолкает и смиренно дар небесный пьёт.
Ветер снова, снова начинает: “Отчего молчишь, чужак и плут?”. То шипит, то грозно обещает: “Хочешь, я достану вихря кнут?
Если за собою плуг не тянешь, то открой пошире пасть и пой!”. И теперь я с ветром завываю, над полями, над лугами…
Ой, ой, ой!..
"Ода лету"
Тëплый воздух медленно тает на стекле, грушевый и солнечный, он навеселе.
Паутина мерзнëт на ведьминой метле. Солнца луч волочится по сухой земле.
Отцвели подсолнухи, пыль дрожит в огне. Засыхают бабочки в сетке на окне.
Солнце лучше видно на седой Луне. Лето только кончилось, расплывшись в тишине.
Груши переспелые под скамьëй лежат, в синем чреве неба дëрнулся закат,
кошки сердце сада сонно сторожат, куст сухой малины грустно конопат.
Ветер жаркий гаснет в мятой простыне. Это всё — неправильно, это всё — во сне.
Ночь зависла в небе с днëм наедине, пока мысли тонут в браге и вине.
Всё уже потеряно, нет пути назад. Листья жëлто шепчут сказки невпопад.
Кажется, за окнами скоро грянет град, вскоре рухнут ливни, будет снегопад.
Розы гематомные вырастут на коже. Как же всё знакомо — до солнца и до дрожи.
Лето засыпает на прохладном ложе. Ниспошли морозы как-нибудь попозже…
Утоли мою боль, незнакомец,
Будто тяжко мне только ночами.
Я монетку бросала в колодец,
А вокруг головами качали.
Сто ударов плетьми - не больно,
Поцелуй не родного - ожог.
В этот ад я пришла добровольно.
Поздно белый бросаю флажок.
Позабыв про себя и гордость,
Снова в омуте по виски.
Изучивши до корки подлость,
Руки ваши прошу в тиски.
Нет ни страха во мне, ни злости,
Но прощением я полна.
До бела перемыли все кости...
От зари я молюсь до темна.
Светом лунным затянутся раны,
Выжжет солнце последний изъян.
Не сработают больше капканы,
Не завяжет узлов бурьян.
На земле, от дождя ещё рыхлой,
Оставляю свои следы.
С неба голос звучит охриплый:
«Так душа пожинает плоды».
Безденежная Ангелина ©
И только жизнь страшнее смерти.
Непрошенных событий череда.
И носятся по кругу, как всегда,
Взбесившиеся мыслей черти.
Растоптанные в прах наивности мечты,
Обратно в урну собираются упрямо,
А путь извилистый, жестоко и багряно,
Старается погнуть железные винты.
В прозрачных водах нет оцепенения.
Мы безмятежно и легко идём.
Себя на дне пучины обретём.
Сей мудрости зачем теперь прозрения?
Растает боль, и гнев уйдёт, и жадность.
Весь смысл явный - в простоте.
Мы возродимся в вечной пустоте,
Где формам не присудят важность!
Не будет звуков там и глаз,
Что здесь смотрели вожделенно.
Мы в вечный сон погрузимся мгновенно.
Считайте вместе : «три, два, раз...»
Безденежная Ангелина ©
Я думала игра не стоит свеч.
И грезился во снах лишь острый меч,
Что в спину мне летит упрямо.
Не шелохнуться. Все багряно.
Но вспышкой огненной пронзило,
Что я когда-то схоронила.
Вот долгожданный мой урок -
Без страха палец на курок.
То жизни выстрел. Смерти нет.
Купаясь в отблеске монет
Не знала истины простой -
Не тот, кто рядом, тот с тобой.
Прошла одна сквозь откровения.
Проснулась. Свет. И нет забвения.
Мне снова мир прекрасен наяву.
Реванш. Люблю. Живу.
Безденежная Ангелина ©
Белый Константин - Возвращение ID #8506
НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК
Снова в путь – купил билеты.
Чёрт опять несёт куда-то
от рассвета до заката,
от заката до рассвета.
Ехать мне далековато –
в лето.
Всех вещей – рюкзак да кеды,
остальное даст дорога.
Мне и надо-то немного –
вдохновенье и беседа,
да ещё улыбка Бога.
Еду.
Где сойду, ещё не знаю:
сяду в поезд – станет ясно.
Мне легко, мне всё подвластно –
я во сне ещё летаю.
Только я ищу напрасно
стаю.
Я найду свой полустанок.
Я узнаю это место –
там не узко и не тесно,
нет ни потолков, ни рамок.
Там построю я небесный
замок.
У меня на завтрак будет
полюс Северный и Южный,
небо звёздное на ужин,
а на полдник солнца пудинг.
Что ещё для счастья нужно,
люди?
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Много лет я бродил по морям, по горам,
по пустыням песчаным и снежным.
Но проснувшись однажды, я понял – пора!
Возвращенье моё неизбежно.
Я всё прошёл, везде бывал.
Я так устал сражаться.
Но ждёт последний бой, финал –
мне надо возвращаться.
Только где ты, мой дом? Где родная земля?
Позабыл я за годы скитаний.
И куда мне податься теперь, если я
сам билет приобрёл на Титаник?
Куда же мне идти, куда?
В какую дверь стучаться?
Где путеводная звезда?
Мне надо возвращаться.
Но опять облака, и не видно звезды,
на лице моём тают снежинки.
За спиною моей заметает следы,
впереди – ни дорог, ни тропинки.
И всё же я иду, иду…
Мне нечего бояться.
Я путь к себе домой найду –
мне надо возвращаться.
Этот путь будет долог, но мне – нипочём!
Этот путь будет труден – и что же?
Я найду свою дверь, я открою ключом,
и меня поцелуют в прихожей.
ВЕСЫ
Когда настанет время подводить итоги,
И на весы Господь мои грехи поставит –
Я на другую чашу положу дороги,
Тропинки и пути, где я следы оставил.
Я положу купе и грязные плацкарты,
Автобусы, попутки, электрички.
Портвейн с горла́, истрёпанные карты,
Сто тысяч сигарет и две последних спички.
Я положу туда истоптанные кеды,
Чужие комнаты, гостиницы, общаги.
И песни, что в дороге были спеты.
И горечь кратких встреч, и долгие прощанья.
Я положу все страны, города и веси
Где я бывал - прошёл, проплыл, проехал.
Апостол Пётр всё спокойно взвесит,
Качая головой, – и станет не до смеха.
Не дрогнут чаши, и не шелохнётся стрелка!
Но если так – из заднего кармана
Листки истёртые, исписанные мелко
Рифмованными строчками, достану
И на весы пустые положу несмело.
И стрелка дёрнется, движение ускоряя!
Сурово Пётр скажет мне: «Другое дело!»
А добрый Бог с улыбкой скажет: «Поздравляю!»
"Красные кони по белому полю"
***
Неба сизое крыло,
Голубиная пушинка.
Вот уже белым-бело,
Словно свежая простынка
На широкую кровать...
Только горем день сожжённый,
И выходит воевать
Ноябрю-молодожёну.
То не Родины вина,
Что его одна невеста,
То ржаное месит тесто
С дымом горечи война.
Вот поставит хлеб на стол -
Обгорелые уголья,
Пополам с горючей солью...
Вышьет красным белый дол.
***
Красные кони по белому полю,
Точно кровавый след -
Нитка в иголку, по ткани до боли...
Беды в проёмах лет!
Песни, орнаменты, ритмы и вязи...
Вросшие в землю дома.
Свет оберега, чтобы не сглазить,
Мимо б тюрьма да сума.
Про́жито было, но только вот снова
В ранах багряных дол...
Облаком белым, что белым покровом,
Скатертью белой на стол -
Были бы живы, а всё остальное...
Выпадет новый снег.
Красная нитка, слово стальное,
Строчки двойной оберег.
"Светлое место Русь"
Светлое место – Русь,
Хлебное поле – жито...
Не за себя боюсь:
Многое пережито.
Туманы речных проток,
Головки ромашек русых...
Белый на мне платок,
Красной рябины бусы.
Ноги сыры от рос –
Холодны нынче росы...
Многое не сбылось,
Вот и шагаю бо́сой.
Синего неба чуть,
Хлеба с собой да соли.
Так бы идти... а путь –
Чтоб не кончалось поле.
Хлебное поле – Русь,
Колосы, как солдаты…
Не за себя молюсь –
За то, что светло и свято.
"Песенка про хорошее"
А давай-ка мы вспомним хорошее!
Может быть, летний день у реки,
Первый снег серебристой порошею,
Что прогнозу летел вопреки,
Рождество, как с картинки шагнувшее
И вошедшее радостью в дом...
Вспомним доброе, чистое, лучшее,
Чтоб оно к нам вернулось потом.
Всё пройдёт, отзвенит, перемелется...
Дни – как вехи дорогою лет.
Крутит лопасти времени мельница,
Кружит землю да солнечный свет.
Все тропинки мукой запорошены,
И рукою до звёзд не достать...
А давай-ка мы вспомним хорошее,
И оно к нам вернётся опять!
«Крымские каникулы: почти невыдуманная история»
Как странно переплетаются время, место, события и мечты… Этот рассказ о том, как моё желание – стихотворная строчка, загаданная в новогодние праздники, стала целой реальной историей с большим продолжением.
Январь, 2017 год.
За окном морозно, в темном стекле отражается мерцающая цепочка гирлянды – елку я еще не убрала, пусть стоит до старого Нового года по традиции из детства. Сегодня странный вечер, на душе почему-то неспокойно. Чтобы отвлечь себя от тревожных мыслей, решаю разобрать старую отцовскую библиотеку.
Папа был любителем поэзии и при любом удобном случае покупал в книжных магазинах томики стихов. Он их обязательно датировал, подписывал и непременно читал вечерами вслух понравившиеся стихотворения маме… А сейчас это его наследие лежит по коробкам в кладовке. Однажды мама хотела отдать все книги в школу, но я не согласилась. Память всё-таки об отце... вот и мамы давно уже нет рядом.
… протирая от пыли тиснёные переплеты, рассматриваю знакомые и незнакомые фамилии авторов, даты и замысловатый размашистый автограф, проставленные отцом на титульном листе. Расставляя книги на полку, думаю о родителях. В этих раздумьях машинально беру следующую и читаю: «Дом поэта», Максимилиан Волошин.
Открываю наугад. Между страниц засушенные листочки и точно пергаментные, потерявшие свой цвет, анютины глазки… Пробегаю глазами стихотворение, и оно, как молния, пронзает насквозь!
«Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов…
В них есть запах, в них есть прелесть
Умирающих цветов.
Я люблю узорный почерк -
В нем есть шорох трав сухих.
Быстрых букв знакомый очерк
Тихо шепчет грустный стих.
Мне так близко обаянье
Их усталой красоты…
Это дерева Познанья
Облетевшие цветы».
Дата – 1904 год, Коктебель.
Начинаю листать сборник и читать всё подряд! Стихи, картины – чудесные волошинские акварели сменяют друг друга. Время промелькнуло в один миг. Закрыв книгу, я еще долго не могла прийти в себя. Почему именно эта книга, это стихотворение, эти полупрозрачные цветы и поблеклые листья? Этот, едва ощутимый аромат, исходящий от страниц? Было ощущение, что я когда-то была там, в Его Киммерии… И мне нужно непременно туда вернуться!
Ах, как хочу я в Коктебель!
Где горный воздух, свежий ветер,
Где море, словно колыбель,
Закат качает, чист и светел…
С этими строками, пришедшими ко мне сквозь сон и окутавшими серебряной звенящей аурой, я проснулась на следующий день.
Конец июня. Погода совсем «нелётняя» - не перестают дожди, да и прогноз на следующий месяц не радует. А так хочется солнца и тепла!
В один из таких хмурых дней иду по каким-то рабочим делам, погружённая в свои мысли. Вдруг телефонный звонок – Юрий Трофимов. Это старейший алапаевский поэт и художник, руководитель литературного объединения «Цветы добра». Рассказывает мне о новостях, о том, что с супругой и с режиссёром Владимиром Поповым весной съездили на отдых в Крым, в Коктебель. В Коктебель! Снова этот серебряный звон, и моя зимняя мечта, словно та новогодняя гирлянда, засияла перед глазами. Ещё немного, и я записываю номер телефона Володи Попова, чтоб узнать адрес знакомых, где они снимали жилье в мае.
Август, 2017 г. Из электронного письма в Алапаевск:
«Володя, здравствуй! Хочу поделиться впечатлениями от нашего путешествия по Крыму. Коктебель, 45 параллель - благословенное место!
Дом-музей Волошина посетили в первый день приезда. Пришли с подругой перед закрытием, посетителей уже не было, и мы, отказавшись от услуг экскурсовода, просто бродили по пустым, нет, не пустым, полным Его присутствия комнатам, Его мастерской. Все здесь, в этом необычном доме, хранит прикосновения хозяина: вещи, фотографии, книги, картины, раковины и камни… Древняя маска таинственной царевны смотрит из полумрака будуара так же, как когда-то смотрела на Него. И кажется, что в отражениях старых зеркал, едва уловимой тенью, возникает знакомая фигура.
Осмотрев всю экспозицию, молча сидели на ступеньках террасы-балкончика с видом на море, на склон знаменитой горы, где самой природой на века запечатлен профиль поэта. Из этого благоговейного ступора нас вывела вахтерша: сказала, что музей уже закрыт и странно, что нас никто не заметил. Придется ей снова отпирать ворота.
Поселились в маленькой комнатке на втором этаже, совсем отдельно от всех других жильцов, и никто не мешал нам наслаждаться горными пейзажами. Казалось, что Кара-даг совсем рядом - его очертания видны были с балкончика, оплетенного виноградной лозой.
Ранним утром ходили к морю. В горы ходили всегда под вечер. Не так жарко, и закат просто прекрасен! Эта картина и сейчас стоит в глазах: солнце неумолимо уплывает за потухший вулкан, цепляясь за его плечи и выступы последними лучами. Весь пейзаж меняется с каждой минутой. Пики и отроги становятся похожими на развалины готических замков, полных волшебных и таинственных существ. Кажется, даже ветер замирает на мгновение, осознавая величественность момента. Цикады вдруг начинают стрекотать с новой силой - ещё громче и дружнее. А Коктебель, точно разноцветные детские кубики, блестит у ярко-голубой кромки моря, ещё не накрытый сумерками, медленно, но неотвратимо спускающимися с гор. Далекий мыс Хамелеон, только что бывший охристо-золотым, будто раскрашенным гуашью, и четко выделявшийся на фоне ультрамарина воды, тускнеет. Каменистая тропа ведет куда-то вверх, в царство сумрака. Мы идём с ней рядом прямо по шуршащей под ногами полыни. Пряный запах высохших трав, неведомых нам, стоит густым настоем в воздухе. Огромные кузнечики, испуганные нашими шагами, выскакивают навстречу целыми стайками. Темнеет мгновенно! Южная ночь захватывает в тёплые объятия, и хочется остаться здесь, растворяясь в этой гармонии…
Писалось много, почти каждый день. Не знаю, можно ли назвать это стихами? Пока просто мои впечатления и размышления».
Впоследствии крымские стихотворения вошли в мой первый поэтический сборник «Так просто», стали его основной частью.
Ровно через два года мне снова посчастливилось побывать в Коктебеле, и эта моя маленькая книжечка есть сейчас в Волошинском доме-музее, в ДОМЕ ПОЭТА.
"Коктебель"
Благословенны небосводы
Под знаком огненного Ра -
О, моря голубые воды,
Навек заснувшая гора!
Непревзойденны земли эти,
Киммерии так сладок дым...
Мы удивляемся, как дети,
Твоим щедротам, милый Крым.
Когда серебряной порошей
Январь тропинки заметал,
Сюда позвал меня Волошин,
Своей поэзией позвал.
Соленых слез блеснула влага -
То мыслей бурная река...
И вот по склонам Кара-дага
Ведёт меня он сквозь века.
Здесь трав пожухлых запах пряный
Колышет знойный суховей,
Закат качается багряный
Среди расщелин и камней...
Здесь, словно демонов чертоги -
Пещеры, впадины, холмы...
Полны легенд его отроги,
Печалей, радостей полны.
Здесь всё звучит в высоком звуке,
Но рвутся струнами лучи!
И тени тянутся, как руки,
К полям из розовой парчи.
Коктебель. Август, 2017 г.
«Память рода моего»
Как тонки нити человеческой памяти, связывающие поколения, замыкающие прошлое, настоящее, будущее. Порвется любая из них – и уйдет в небытие чья-то судьба, чья-то долгая, нелегкая жизнь… одна, а может и судьбы целого поколения.
Мы не часто слушаем своих родных и самых близких людей, забывая за своими делами и заботами о простом человеческом разговоре. Так, отмахнемся, отгородимся дежурными фразами и бежим дальше, а они УХОДЯТ… И вместе с ними уходит наше прошлое, наша память - которую не узнают наши дети, внуки и правнуки. Ведь и они глядя на нас уже просто не захотят знать о своих предках, о своих корнях.
Остановитесь, вслушайтесь и передайте дальше, из рук в руки, эту тонкую, как паутинка, но пока еще существующую нить памяти РОДА своего!
Слишком рано ушел из жизни мой отец – Кузнецов Автоном Николаевич. Вот уже 27 лет нет его рядом, но до сих пор ощущение этой безвозвратной потери острой иглой пронизывает сердце, и память (о, спасибо этой невероятной человеческой способности!) вновь и вновь оживляет яркие картинки моего детства. Вот я с отцом на рыбалке – с замиранием сердца смотрю на качающийся в сверкающих бликами волнах поплавок, и вот уже трепещется у меня в ручонках первая пойманная мной рыбёшка; вот мы с ним собираем грибы, и отец придумывает шуточное заклинание, чтобы Дух леса открыл нам все заповедные полянки; вот мы ищем под камнями звонкой лесной речки домики-палочки с ручейниками; вот пускаем с нашего плотика кораблики из щепок, и обязательно с капитанами, и у каждого капитана – своя история; вот он принес мне «гостинцы от зайчика» - на веточках с резными листочками, спелые ягоды земляники в своей рыбацкой фуражке; а вот мы с папой вместе идем в школу…
Как любила я эти часы нашего с ним общения, ведь отец был великим выдумщиком и рассказчиком. Как любил он окружающую природу: реку, лес, поле, небо и солнце! Каждое деревце, каждую малую травинку и букашку наделял он человеческой душой и характером, и мы разговаривали с ними, как с равными. А еще были рассказы о его семье, о его детстве…
Как давно это было, как трудно было мне - маленькой девочке это понять и осмыслить, но я всей душой внимала отцовским рассказам.
«Тяжелое военное время пришло и в маленькую деревеньку Новая, где родился Автоном, или как звали его родные – Вахта, Вахтушка. В большой дружной семье Кузнецовых (было в семье 9 детей) горе - на фронте пропали без вести два старших брата, два танкиста Афанасий и Павел. Нет вестей от Василия, еще от одного брата, несущего службу на границе с Японией. Отец – Николай Павлович и старшие сестры Анна и Зинаида, живущие своими семьями, трудятся в колхозе. На руках у матери – Зои Семеновны четверо малолетних детей, Варвара и Автоном – старшие. Варя – школьница, помогала матери по хозяйству, нянчилась с младшими Ваней и Борей. И Автоном, чтоб как – то помочь своей семье, просится на работу в колхоз. И девятилетнего мальчишку принимают на работу - пастухом. Пасти колхозное стадо - большая ответственность. Гонять коров приходилось далеко от деревни, пешком не управишься. И вот ранним утром садил отец Вахтушку верхом на лошадь, сам-то он забраться не мог, уж больно ростом мал был. Мать давала с собой нехитрый обед: ломоть хлеба, зеленый лук, да кружку молока в помятой фляжке, шлепала лошадь по холке и долго смотрела в след сыну.
Первое время было страшно одному в лесу, вот и придумывал Вахта всякие истории себе, песни пел, с лошадью и коровами разговаривал. Целый день тяжело верхом, спина и ноги затекают, а слазить с лошади мальчик боялся – обратно самому не залезть. Как-то один раз слез по нужде, а как обратно забраться не знает. Потом догадался, к поваленному дереву лошадь подвести, но и то не с первого раза получилось на нее сесть. Но он упорный – научился, да и лошадка смирная была, понимающе смотрела, тяжело вздыхая, на своего малолетнего наездника...» Этот рассказ – всего один маленький шаг трудового, а можно сказать и жизненного пути моего отца.
В д. Новой не было в то время школы, приходилось детям (осенью и весной в грязь и слякоть, а зимой в стужу и темень) ходить в Луговскую школу. По воспоминаниям отца: ходили с сестрой в школу по очереди, один день он, другой – Варя (одеть нечего было: одна обувка и одежка на двоих). С образованием 4 класса отец поступил в ремесленное училище, а после работал кузнецом на механическом заводе в г. Н. Тагиле. С завода призывают в армию. Попал отец, как и погибшие на войне старшие братья, в танковые войска. Служил 3 года в послевоенной Германии, под Берлином.
После армии – снова учеба. После окончания СПТУ в г. Сысерть, снова работает на заводе, а потом приезжает в родную деревню Новую уже не один, а с женой Изой, выпускницей Нижнетагильского педагогического училища. «С корня» строят дом, строят, как и заведено было тогда в деревнях «всем миром», всей роднёй. Молодых специалистов с радостью принимают на работу: отца – сначала механизатором в Южаковскую МТС, потом бригадиром животноводов, а маму – в школу, учителем начальных классов.
Работа дом, семья, свое хозяйство – все устроено, но отец понимает, что надо идти дальше. Закончив в д. Луговой курс восьмилетней школы, и не смотря на протесты родни, отец продает дом и переезжает с семьей (у них с мамой уже двое детей) в с. Петрокаменское. Вместе мои родители устраивается в Петрокаменскую школу. Работает отец завхозом, вечерами учится, заканчивая десятилетку, а цель – поступление на заочное отделение Нижнетагильского педагогического института. И вот, он уже выпускник института, с дипломом преподавателя технических дисциплин! Впереди - полный испытаний, новый неизведанный путь.
Так, от деревенского колхозного пастушка дошел мой отец до должности директора Петрокаменской школы, а затем и первого руководителя Петрокаменского УПК.
Учился отец всю жизнь, учился жить, учил жизни нас – своих детей, своих учеников, учил на своих жизненных примерах.
Родился, жил, учился, работал… что сказать ещё? Ещё вырастил троих детей, был заботливым отцом, любящим мужем, надёжным другом, замечательным педагогом, уважаемым руководителем. Ещё он был добрым, веселым, искренним, энергичным…
Перебираю старые фотоснимки и глядя в родные, со знакомым прищуром глаза, с запоздалой ясностью ощущаю, что все наши жизненные метки – родился, учился, работал, - на самом деле ничего не определяют. Просто было его солнце, была его река, шёл его дождь, падал его снег, плыли его облака, была его жизнь… была и осталась в моей памяти, в памяти моего рода.
«Краски детства»
Словно сны из детства
Я вижу наяву:
С сиренью по соседству
Мой дом на берегу
Здесь в каждом закуточке
Фантазии живут,
Сирени лепесточки
Мне сказку принесут…
Из старых досок лесенка
До плотика лежит,
Крутых ступенек песенка
Вдогонку мне бежит!
Наш старый, шаткий плотик
Казался мне дворцом
И сказочным кораблик,
Подаренный отцом.
На палубе из щепки
Из стружки капитан:
Он парень очень крепкий-
Откроет много стран!
…где капитан из сказки,
Куда кораблик плыл?
Со мной, лишь, детства краски-
Отец мне их открыл.
Посвящается моему отцу – Кузнецову Автоному Николаевичу
Березенкова Елена - Подборка стихов ID #8347
Буду жить
Буду жить вопреки и на зло,
Уповая на Господа Бога.
Чтобы мне в этой жизни везло
И была долгой, светлой дорога.
Да, судьба ты, увы, не проста,
Ничего не поделать с тобою.
Груз не лёгок такого креста,
Но несу я достойно, не скрою.
Буду жить с верой в силы свои,
Достигая задуманной цели.
Кораблём в океане судьбы,
Проходя через рифы и мели.
Поступать, как иначе ещё,
Когда жизнь так ведёт со мной строго?
Буду жить вопреки и на зло,
На себя уповая и Бога.
2024
Живи, Россия!
Живи и процветай, Россия!
Свободно воздухом дыша.
Пусть сохраняется красивой,
Твоя открытая душа.
Живи, страна великих мыслей,
Великих гениев - творцов.
Живи в прямом - широком смысле,
Земля талантов, мудрецов.
Живи во славу, для народа,
Его единство сохрани.
Во имя веры и свободы,
Достойно, с честью ты живи.
Как необъятна ты, Россия!
Как величава и сильна.
Живи под солнцем, небом синим,
Ведь ты у нас навек одна.
2024
Оставлю след
Предстоит перед Богом ответ,
Когда очи навеки закрою.
Мне бы только оставить свой след,
Написав книг душевной строкою.
Знаю, что позабудут меня
И стихов, коих множество было.
Как при этом ночами огня,
До утра ни на миг не гасила.
Иногда говорят: это бред
И что зря трачу время, и силы.
Но мне нужно оставить свой след,,
В этой жизни и очень красивый.
Труд поэта не лёгок, увы,
Одинокий и не благодарный.
Но останутся всё же следы
Строк душевных, красивых, приятных.
2024
~ Если бы я стал ветром ~
Вот если бы я превратился в порывистый ветер,
Родившись из полуоткрытых, потресканных губ!
Катился бы звонко и был так неистово весел,
Покинул из ребер уютный, потасканный сруб.
Свалившись к двери и топчась на скрипучем порожке,
Сквозь петли, сквозь узкую скважину щели замка,
Без лифта, перил я летел бы к подъездной дорожке
Не тронув бетонных ступеней мысочком носка
Разнесшись по барам, церковным удушливым залам,
Нависшего смрада застой заменяя на бриз,
Трепал бы бумажки, гладь шелковых вод, покрывала
Сметая мозольную мглу, паутинную слизь.
Ворвавшись в сознания сотен и мысли тысяч,
Развеял по миру б надежду, тепло и любовь…
За веру в людей захотят перерезать и высечь –
Запрячут в печи городской на один лишь засов
Без уст зашепчу угольками игриво и нежно,
Завою со свистом лиричную песню ветрам.
Извергнутся искрами трубы, шатнувшись небрежно.
Пустые беседы безмолвно взлетят к облакам…
Затих безмятежный закат, и редеет дыханье,
Иссохли глазницы взирая на щели в тиши
Вернусь я ко вдоху, на входе воспряну заранье
Что б автор вдыхал в эти строки частицу души.
~Усталость~
Порой разрывается плевра
И режет от ветра глаза.
Бегу я опять километры,
И пот на лице как роса…
Молчат, обессилев, кувалды,
В скелете не кость, а труха…
Ломы в стороне и лопаты –
Дрожит с сигаретой рука.
Сугробы до пояса в поле –
По фидеру к месту ползу.
На спину улягусь поколе,
Я то ли во ржи... то ль в хлеву.
Ах, если бы было как раньше:
Любимая мать у двора
Искала б меня на закате,
С работы ждала у крыльца!
Бывает, колотится сердце,
В груди удушающий ком.
Оставлю открытою дверцу,
Уйду - не покинув свой дом.
~Дыхание земли~
Случалось ли вам идти за сохою
Под солнцем палящим горячих нив?
За плугом ступать обнажённой ногою
В прохладу подземную черных жил?
А может быть, чудо вам виделось это:
Под снегом бурлит и кипит земля,
Повсюду журчит и парит она блеском!
Весенней поры не любить нельзя!
Земля умывается летним рассветом
Росою холодной… Играет заря.
И запах полей безупречного лета
Тебя обнимает, кружа и любя.
И в поле уверенно засветло выйдем,
Мы, стопы и косы росою смочив,
И, сонные, сильные руки поднимем,
От пота косынки на лоб замостив.
Взмахнули! И грянем на выдохе разом,
Вдыхая луга, и родные поля.
Влюблен и рассветом я вымотан травным
Чей запах бодрит и тебя, и меня.
С дорог сенокос не увидите даже –
Там в солнца лучах лишь туман и мошка.
И семеро нас там на выдохе машет,
А издали слышно, как дышит земля.
"Осенний вопрос"
Осень - что это для Вас?
Листьев красочный палас!
Что такое осень? Это..
Наступило "бабье лето"!
А ещё пора грибов,
Сладких вкусных пирогов!
Это пёстрые цветы
И шуршание листвы!
Буйство красок на дороге,
Мокрый зонтик на пороге..
Осень - в школу в первый класс!
Осень - дождевик у нас,
Осень - поплескаться в луже,
Тёплый день, а ночью - стужа..
А теперь у вас мы спросим:
Что для вас такое "осень".. ?
"Осенний день"
Как же осень хороша,
Тихо листьями шурша..
Ветер гонит лист сухой
И печали все долой..
Ярко ярко светит солнце,
Отражаяся в оконце..
Ты по улице идёшь,
Листья ножками "метёшь"..
Как прекрасно так гулять,
День осенний наблюдать..
От красот душа поёт,
Листья кружат хоровод..
Жёлтый, красный лист резной!
Кыш печали все долой!
Как же, как же хорошо..
Погуляю я ещё!
"Осень"
Пришла осень золотая,
Листьев жёлтая пора.
Листья в небо запуская,
Веселится детвора.
Листьев целая охапка
Еле держится в руках.
"Бабье лето": ты без шапки,
Кружишь в юбке, в сапогах...
Ветер в волосах играет,
Солнце светит - теплота!
Осень жёлтая пылает -
Это просто красота!
Бобрышева Ольга - Про котов ID #8724
"Объятия"
А для счастья надо мало -
Обними возьми кота..
Холодно душе так стало,
Нужна чья-то теплота..
Совсем люди перестали
Дарить друг другу теплоту -
Руки холоднее стали..
А ты возьми - прильни к коту..
И если стало одиноко
И окружает темнота,
Ходить не надо ведь далёко -
Ты просто обними кота..
Ему понятно всё без слов,
Без всяких многоточий, точек..
Почувствуй теплоту котов,
Пушистый обними комочек..
Для счастья надо очень мало-
Обнять кого-то просто так..
Тепла так в мире мало стало..
А ты возьми, начни с простого -
Почувствуй теплоту кота..
"Спасение"
Отвезли кота на дачу,
Задал он нам всем задачу.
Ловит серый котик птичек:
Трясогузок и синичек..
Вот поймал он воробья!
Он живой!,- кричу всем я.
И скорей его спасать,
Из серой пасти вынимать!
Ах, ты котик мой - злодей!
Бедный бедный воробей!
Я в руках его держала, успокоила его.
А потом ладонь раскрыла - полетел он высоко!
Бабушка кота ругает:
Кто тут птичек истребляет!?
На руки кота беру,
Бабушке я говорю:
Кот наш - хищник, он не злой,
От природы он такой...
"Соблазн"
Вот стоит тут вкуснота-
Искушенье для кота.
Пахнет вкусно так, мурлык!
А укусишь, будет втык..
Как себя мне удержать,
Курочку не облизать?
Вот бы взять её украсть..
Нечего её тут класть!
На столешницу забрался,
Вот как близко подобрался.
А попробовать никак!
Получу опять тумак..
Остаётся так сидеть
И на курочку смотреть..
Буду так сидеть грустить;
Может их смогу смутить..
И сработает везенье,
Получу я угощенье!
БЕЛЫЕ НОЧИ
Когда бледнеют вечера,
Не меркнет солнце до утра,
На полусонный град Петра
Нисходит свет из серебра.
Струится мягко полутень
И ночь светла почти как день.
Луна виднеется едва -
И не мертва, и не жива.
Нахлынет зыбкая волна.
Пришла она с морского дна
Или ласкает берега
Жемчужно-серая река?
Не ясно. Всюду пелена.
Туманный свет тому вина.
Смешались небо и вода.
А горизонта полоса
Исчезла в дымке без следа.
Фрегат унесся в небеса,
И гордо шпиль свой вознесла
Адмиралтейская игла.
Соборов дивных купола
Мерцают золотом горя.
Не то закат, не то заря
Румянцем красит облака.
Летит нетленно сквозь века
Парящий ангел, свысока
С любовью устремляя взор
На Петропавловский собор.
А в Летнем саду зацвели
Белой сирени кусты.
Почти не касаясь земли
Повисли в тумане мосты
И крылья свои развели
Приветствуя корабли.
Заснули каменные львы
В тиши небесной синевы.
Невы безмолвное течение
Дворцов поймало отражение.
Возникло словно наваждение
Неуловимое видение.
Охватит смутное томление,
Обнимет ночи сновидение,
И свет предрассветных лучей
Растает в огнях фонарей,
В плену колдовских очей
Загадочных белых ночей.
ЗИМНИЕ СУМЕРКИ
Погаснул на небе бескровный закат.
Лучи, догорая, тщедушно дрожат.
Все краски поблекли, истёрлись черты,
Отпущенных дней истекают часы.
Лишь снег заметает ушедших следы.
Чернеют древесных скелетов ряды.
На фоне костлявых обглоданных крон
Мрачнеет угрюмо вдали небосклон.
Все ближе и ближе тревожная мгла…
Мгновенье – и вот уже ночь пролегла.
На бархате траурном еле видна
Возникла как призрак бесплотный луна.
Раскинулся саваном снежный покров,
Застыли сугробы могильных холмов.
Минувшие дни растворились во тьме.
Сегодня иль завтра – все будем в земле.
ЖАРА
Льется на землю волною незримой
Испепеляющий солнечный свет
И накрывает жарой нестерпимой -
Из пекла палящего выхода нет.
Огненный шар желчно слепит глаза.
Тучи иссохли. Не брызнет слеза,
Дождь не напоит легкой прохладой.
Тени приют не станет отрадой.
Зной разливаясь вокруг полудремой
Воздух наполнил душной истомой.
Сонно ползут облака в вышине.
Ветер застыв в летаргическом сне
Шепотом тихим не будит листву,
Легким дыханьем не колышет траву.
Город бетонный терзает жара.
Ночью штурмует дома мошкара.
Пыльный асфальт раскалился дотла.
Шумная улица вдруг замерла.
Вяло повисли струи фонтана.
И испуская волны дурмана
Давит удушливый запах бензина,
Едко воняет где-то резина.
Сердце в истерике бьется в груди
Перед глазами мелькают круги.
Тело горит словно в адском огне
Пот разливая по липкой спине.
То ли в реальности то ли в бреду
Я к горизонту с надеждой иду.
Вижу свинцовые тучи вдали
И призываю в молитве дожди.
Лето, не уходи….
Уходит лето, не спросившись, без возврата...
Вот- вот свернёт за горизонт, за поворот.
Оно, как парус яхты безмятежной,
Который, каждый год за годом ждёт.
Оно щедро на добрые подарки,
Рассветы ранние и сказочный закат.
Цветы волшебные, диковинные травы,
Кто чудо это видит, тот уже богат!
А пенье птиц на утренней зарнице,
А запах в печке, запеченных овощей.
В корзинке урожай грибов и ягод.
Нет ничего прекрасней этих дней.
За поворот уйдёт оно, не обернувшись.
Закон природы. Он не умолим.
Растают краски, что рисует лето.
И растворится всё, как белоснежный дым....
Настроение - осень…
Настроение, скажу я вам, осень...
И последнее яблоко сбросит,
Наша яблоня дедом посажена,
А когда-то была так наряжена...
В белоснежное платье воздушное,
Ветру, солнцу и небу послушное.
А потом в сарафан яркий яблочный,
Ароматный, волшебный и сказочный.
Настроение, как видите, осень...
За окном мелкий дождь и морозит...
Будет лить день и два. Может вечность,
Эта серая мгла. Бесконечность...
Дождик летний, другой. Он приятный...
Обнимает, танцует приватно.
Тёплый он, и к тому же весёлый,
Он свободный, и чуточку вольный.
Настроение ведь может быть разным,
И воздушным... Порой безобразным...
А сегодня такое вот... Осень...
Что придёт. И навряд ли нас спросит....
Мысли о жизни
Жизнь пролетает, словно птица…
Вновь разрывая тонкие страницы,
Календарей, приобретенных в Новый год.
Неутомим ее полет…
Крылом манящий, в неизведанную даль!
О, Боже, как бывает жаль,
Минут, мгновений, дней,
Прошедших безвозвратно…
Вставая утром,
Думаем мы: «Ладно».
И говорим себе: «Вперед!»
Хватает дней лихих водоворот.
И мы несемся, словно горная река….
А на небе такие облака!!!
Что хочется так взять, остановиться.
Руками мир обнять и насладиться
Ромашкой, полем, мотыльком.
Напевом леса, легким ветерком.
Остановиться, оглянуться, оценить
Подъемы и паденья жизни птицы.
Остановится… и начать листать…
Все новые и новые страницы
Календарей, приобретенных в новый год!
Хор.
Органный океан расплёскан
По голосам и отголоскам,
Восходит солнце блюдом плоским
Над полосой береговой
В молитвенной полифонии,
В которой мы совсем иные,
Сливаясь в хоры внеземные,
В них голос растворяем свой…
Такое таинство созвучий,
Что каждый делается лучше,
Кто партию с листа разучит,
И не фальшивит, но поёт,
Всех ангельских собратьев слыша:
Из океана капля вышла
И поднимается всё выше,
Покуда солнце не взойдёт.
Касается лучей и снова
Нырнуть в свой океан готова,
В нём растворяя Божье слово,
Собою дополняя хор.
Обратно вынырнешь не скоро,
Пока впитаешь разговоры…
А на болгарском «люди» - «хора»…
Так что ж не хор мы до сих пор,
Когда к соборности взывая
Расплёскана вода живая,
И линия береговая
Звучит органом и огнём?
Так, еле-еле поначалу,
Мощь набирая величаво,
В моём народе прозвучало
Моленье робкое о Нём,
Чьё Слово в каждом отзовётся,
Кто радуется и смеётся,
Чьё Тело истинное Моцарт
Воспел в мотете* ре мажор!
Мы этой музыкой богаты,
Вплетаем голоса, пока Ты
Океаническим накатом
Объединяешь нас в свой хор…
Мотет* — жанр многоголосной вокальной музыки, возникший во Франции XII века, на протяжении четырех столетий оставался наиболее популярным и в светской, и в духовной музыке. Преимущественно хоровой, к XVIII веку он, под влиянием итальянской музыки, становится сольным и приобретает некоторые черты духовной кантаты.
Резонанс.
Мчишься ко мне, расстояние скомкав,
Белый Renault от земли отрывая…
Сколько не виделись месяцев - столько
Цифр на стеклянной кабине трамвая.
Номер одиннадцать или двенадцать
Мне подойдёт до победы конечной…
В этом году надо нам разобраться,
Надо во всём разобраться, конечно!
Зимнее солнце шустрее синицы -
То по сугробам, то - в лапах еловых…
Если ресницы прикрыты - приснится
Самое вечное, вещее слово,
Слово, в котором живёт обещанье,
Слово надежды, единственной в свете.
Им все пророки о Боге вещают,
В нём отголосок вселенной естествен.
Плотною коркой, поверхностным настом
Скованы наши с тобой снегопады.
Белый Renault неземным резонансом -
На перекрёстке, ветрами распятом,
Вертится, чтобы скорее домчаться
Или застать меня ждущей трамвая -
Целый сугроб невозможного счастья,
Что засыпает, в перчатку зевая.
Кружится мир остановкой замёрзшей,
Где я «одиннадцать» жду иль «двенадцать»,
Чтоб целый год оказался навёрстан
Встречей Крещенья вдвоём, если вкратце…
Опера.
В 1926 году в Большом театре поставили оперу Римского-Корсакова
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».
Коль с берега глянешь - увидишь,
О чём написал Римский-Корсаков:
Встаёт белокаменный Китеж
Над уроборосовой просекой,
Расходятся воды внезапно ли
У светлого ока земного?
Но город священный не заперли,
И он возвращается снова.
Царапая небо крестами
Часовен, верхушками маковок,
Он из-под воды прорастает
Лесами, что примут не всякого…
В них слово, как семя, заронено,
И в музыке, и в декорациях
Работ Васнецова с Коровиным,
Перуново и Китоврасово…
Напомнит про зверства Батыя,
Про вечную юность старуха вон -
Расскажет, как строил златые
Хоромины внук Долгорукого...
Вопросам столетий ответствуя,
Звуча, расступаются волны.
В часы всенародного бедствия
Партер до отказа наполнен!
Сто лет этой опере скоро,
А все соловьёвцы и мистики -
Наш непотопляемый город,
Неопровержимая истина…
Мистерия эта содеяна
Единой души оберегом,
Овеяна, оберендеена
Соборности сказочным снегом.
Смотри, берега обмелели:
Ракита лежит на раките же.
Змей держит во рту, в самом деле,
Хвост от возрождённого Китежа.
Он светится, словно игрушечный,
Он жив, несмотря на пожары -
На полкилометра в окружности
Заветного дна Светлояра.
Монета
Ночью небо в брызгах молока.
Грязь да иней - кофе с серебром.
Сосны зацепляют облака,
Падает монета на ребро:
Быть - не быть, забыть - не позабыть?
Катится оброненный обол.
Подле бабка-ёжкиной избы
Розовый безвременник расцвёл.
Перекати-поле перека...
Тикают старинные часы.
Холодом учили дурака,
Холодом дурак по горло сыт.
Он стучит в окованную дверь:
"Отпирай, старуха, помогай"!
Ветер воет, снег летит наверх,
Топает куриная нога.
Вот бы растянуться на печи!
До утра не думать ни о чём,
Слушая, как времечко стучит
Маятника нёбным язычком.
Только хлад вокруг да ветродуй,
В ступе догнивает помело:
"Сгинула старуха на беду,
Но тебе, голубчик, поделом!"
Ветер свищет, сосны гнёт, шутя.
Падает монета на ребро...
И дурак уходит, как дитя
Безысходно веруя в добро.
Герой
Был снег вторичен, неглубок.
Шел год под стать ему.
Тезей укладывал клубок
В походную суму.
Он был не воин, не солдат,
Он не любил людей.
Умен, немолод, бородат -
Герой на черный день,
Но за порог шагнул, как в бой,
Навстречу всем ветрам...
Взошел оранжевый клубок
Над городом с утра,
И покатил за горизонт
Среди небесных тел.
А на нестриженный газон
Пушистый снег летел,
И Ариадна у окна
Сквозь снег смотрела вдаль.
Из шерстяного волокна
Была ее печаль.
Под вечер снег следы укрыл,
Потом присыпал цель...
Но продолжалась до поры.
История. В конце
Старуха пряла у огня,
А в небе голубом
Котенок лапой погонял
Оранжевый клубок.
Мяч
Грош ломанный в карман дырявый спрячь:
Сегодня купишь Тане новый мяч -
Но завтра повторится, что и прежде:
Меланхоличный вечер мартобря,
Канал в неверном свете фонаря,
Утраты, сожаления, надежды...
Ты смейся, смейся! Сколько нам ещё?
Несёт котенка нищий под плащом,
Бог весть, зачем: спасет или утопит?
А всё-таки, а всё-таки всегда
Есть белый свет и черная вода,
И мяч плывет: накапливает опыт.
Сентябрьским вечером Андрей нашел пачку «Мальборо» на парапете подземного перехода. Распечатанную, но не начатую. С тех пор как он бросил курить, ему постоянно попадались сигареты в самых неожиданных местах: иногда он подбирал их и отдавал соседу по съемной «двушке», иногда, раздраженный накатившим желанием сделать затяжку-другую, выкидывал в ближайшую урну, а чаще всего – не трогал. Но собирался дождь, Андрею стало жалко добра, так что он сунул пачку в карман. И только дома заметил спрятанный за фольгой листок с телефоном: «Нашедшему просьба позвонить».
В голове сразу же возникли сюжеты из шпионских детективов и криминальных новостей. Не став дальше щекотать воображение, Андрей набрал неизвестный номер.
– Здравствуйте, – откликнулся спокойный мужской голос. – Чем могу помочь?
– Я нашел ваши сигареты, – сказал Андрей, не придумав ничего умнее.
– Отлично! – Собеседник оживился, и дальше вопросы посыпались градом: «Как ваше имя?», «Где случилась находка?», «Сколько вам лет?», «Вы курите?».
– Два года как бросил, – сказал Андрей, чувствуя себя круглым дураком. – Что всё это значит?
– Я с удовольствием всё вам объясню, – пообещал голос в трубке. – Сможете завтра подъехать на Орджоникидзе, 14?
За следующие пять минут Андрей выяснил, что собеседника зовут Кирилл Зотов и сигареты возвращать ему не нужно. А ещё, что Зотов заведует кафедрой социальных прогнозов Института прикладной психологии и социологии и проводит уникальное исследование, результаты которого намерен опубликовать в журнале. Поэтому участников необходимо зарегистрировать как полагается.
– Часам к двум нормально будет? – предложил Андрей. Отчасти им двигало любопытство, отчасти – солидарность: он, сам пока-еще-аспирант факультета психологии в меде, знал, как непросто бывает набрать выборку.
– В любое время до восьми, я буду на месте, – заверил Зотов. – На проходной скажете, что ко мне.
***
На следующий день Андрей сидел в лаборатории Зотова, заполнял анкету и пил чай.
– Видите ли, – объяснял Зотов, молодой человек с аккуратной бородкой и горящими энтузиазмом глазами, – моя гипотеза состоит в том, что люди чаще получают что-то, если это «что-то» им совершенно не нужно. Как у Пушкина: «Чем меньше женщину мы любим...» И пока гипотеза подтверждается! Почти все мои сигареты нашли бывшие курильщики вроде вас. По статистике, у нас в городе половина населения курит: должно быть примерно 50% на 50%, а получается 95% на 5%.
Андрей украдкой разглядывал заставленную старым оборудованием комнату с фикусом и алоэ на подоконнике, заваленный бумагами стол Зотова и самого «Кирилла Ивановича», который был ненамного его старше, но уже защитил кандидатскую и даже получил кафедру. К сожалению, вместо тонконогой студентки-лаборантки вместе с Зотовым работала Валентина Сергеевна Махова, дородная женщина лет шестидесяти, которая слушала начальника с явным скептицизмом, но не забывала подливать ему чай и выкладывать на блюдце печенье и конфеты.
– Я бы назвал этот феномен «законом уксуса», – продолжал рассуждать Зотов. Узнав, что Андрей в некотором роде почти коллега, он увидел в его лице благодарного слушателя. – На халяву и уксус сладкий, правильно? Но шутка природы в том, что ничего, кроме уксуса, на халяву вы и не сможете получить...
– Мне кажется, вы напрасно смешиваете нематериальное и материальное. И слишком упрощенно понимаете категории «нужности» и «ненужности», – мрачно сказал Андрей, которому такая логика совсем не нравилась. – Почему ограничиваете временной отрезок ненужности одним днем, а не, к примеру, одним месяцем? Это может перевернуть ваши результаты с ног на голову.
– Интересная мысль! – Даже возражения Зотов воспринимал с энтузиазмом. – Но то, что в моей выборке сигареты чаще других находят бывшие курильщики, – факт. Можно взять разные временные интервалы и посмотреть, что получится... Андрей, а вы не хотели бы подключиться к работе? Думаю, мы смогли бы оформить вас на полставки.
– Место для вас есть, но надо будет прибраться, – вставила Валентина Сергеевна. Взглядом она указала на стол у стены, на котором громоздились три старых системных блока.
– Статью опубликуем, возьмем вас в соавторы... – сказал Зотов. – Приходите в любое время, обговорим подробности.
– И печенье приносите к чаю. – Валентина Сергеевна убрала остатки сладостей в шкафчик.
– Спасибо, – поблагодарил Андрей больше из вежливости, чем от души. – Я подумаю.
Он отдал Зотову анкету и пожал руку.
Кафедра социальных прогнозов находилась на четвертом этаже учебного корпуса: заканчивался перерыв, так что пробираться к выходу пришлось через стайки студентов, опаздывавших на пары.
Институтская суета задевала ностальгические струнки и раздражала. Андрей ушел из аспирантуры в академ больше полугода назад и уже понимал, что восстанавливаться не будет: пропало вдохновение, запал. Он работал день через день в частном кадровом агентстве, подрабатывал репетитором – денег на жизнь и редкие посылки домой хватало, но перспектив не просматривалось никаких.
Сидя по выходным с приятелями в баре, он думал о том, что ничего в Москве его, в сущности, не держит: работа какая-никакая есть везде, а поддерживать общение можно и по сети.
Забрать документы и вернуться в родной Рыбинск мешало только упрямство и отчасти нежелание разочаровывать родителей. Он не считал себя законченным неудачником, но недовольство самим собой свербело, как заноза, и Зотов эту занозу нечаянно растревожил.
«Закон уксуса», значит, – сердито подумал Андрей, выйдя из института. – Чепуха!»
Моросил дождь. Клены и березы еще не пожелтели, стояли мокрые и угрюмые.
Андрей поспешил в метро: к четырем нужно было успеть к ученику.
***
Ученика звали Марком. Он перебивался с двойки на тройку по половине предметов, так что Андрей, помимо биологии, занимался с ним химией и географией. Марк не был глупым или ленивым, скорее, невнимательным. Ему совершенно не нравились естественные науки, и никакая красочная анимация под вкрадчивый голос диктора с «Дискавери» не могла его заинтересовать: приходилось просто зубрить программу перед контрольными.
– Самая высокая гора Европы... Самая длинная река Северной Америки... Столица Австралии... – спрашивал Андрей, досадуя то на себя, не сумевшего найти другой подход, то на Марка, никак не желавшего понять, что Миссисипи и Канберра ему очень даже нужны – не вообще, но завтра.
– В какое созвездие входит Полярная звезда?
– Андрей Николаевич, а вы новые «Звёздные войны» смотрели? – Марк болтал ногами под столом и крутил ручку с колпачком-Чубаккой в измазанных чернилами пальцах. – Правда, отстой?
Андрей усмехнулся:
– Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Контрабандистом? Тогда географию точно придётся выучить.
– Не знаю, – серьёзно ответил Марк. – Но папа говорит, всё равно мало что в жизни выходит так, как хочется. Поэтому – какая разница?
– Мало – не значит «совсем ничего» Полярная звезда входит в Малую Медведицу и может помочь тебе сориентироваться в лесу. В жизни выбрать направление помогут только знания, – сказал Андрей. Ему вновь вспомнился Зотов, с горящими глазами расхваливающий свою теорию. – Знания, Марк, это сила, а четверка за контрольную – это лист наклеек по «Звёздным войнам». Сдашь – принесу. Договорились?
От Марка Андрей вышел измочаленным. «Мальборо» Зотова жгло карман.
«Зачем я бросил? – спросил он сам у себя, бредя по улице. – Это было после того, как мы разошлись с Маринкой: хотел доказать себе, что могу. Ну, доказал – и что? А зачем начинал? Да просто так, ни за чем... Бессмыслица. Здоровый образ жизни или нездоровый – в жизни цель нужна, а не образ!»
От воспоминания о Марине настроение окончательно испортилось.
Неудивительно, подумал Андрей, что они не сошлись характерами. Марина была совсем другой, нежели он сам: целеустремленной, решительной, веселой – душа компании, человек-зажигалка. Она легко придумала бы пару-тройку остроумных объяснений для данных Зотова и название получше, чем «закон уксуса».
Соседа дома не оказалось. От скуки Андрей включил на кухне телевизор: нефть дешевела, акции «Теслы» росли, известный олигарх попал в ДТП, а малоизвестный актер устроил перформанс в отделении полиции.
«Бессмыслица! – Андрей щелкнул пультом, выключая звук. – Мы окружены ненужной информацией и ненужными вещами. Поэтому чаще всего находим нечто, совершенно нам ненужное. Только и всего. А законы природы не могут учитывать наши желания и потребности».
***
Следующие три дня прошли ни шатко ни валко. Андрей работал, вел занятия, ел и отдыхал – но мыслями то и дело возвращался на кафедру социальных прогнозов. Теория Зотова строилась на огромном количестве допущений и была, очевидно, абсурдна, однако как будто требовала рассмотреть себя под лупой, разобрать по косточкам, опровергнуть...
Такая пустая – ненужная? – трата времени была совершенно не в характере Андрея. И все же вечером четвертого дня он топтался перед воротами института с пачкой печенья в кармане, не решаясь переступить черту, отделявшую его, благоразумного взрослого человека, от непонятной авантюры.
Недоверие к теории Зотова, с досадой думал Андрей, пробуждала логика самой теории: не могла же ему просто так, на халяву перепасть возможность изменить жизнь, сделать что-то значительное?
Андрей вздрогнул и обернулся: кто-то вдруг тронул его за плечо.
– Кы-ы-у-у! – Старик-дворник зыркнул из-под кустистых бровей и двумя пальцами постучал по губе, прося сигарету.
Дед выглядел колоритно: крупный, заросший, седой и с всклокоченной, но чистой бородой, в потертой кожаной куртке и лихо сдвинутой на затылок шапке; метла в его руке издали сошла бы за комиссарскую винтовку. Один глаз сильно косил, зато второй, серо-голубой, смотрел прямо в душу.
– Простите, бросил, – мотнул головой Андрей, хлопнув по обычно пустовавшему карману, – и нащупал зотовское «Мальборо».
– Подождите! Вот... – Он отдал дворнику пачку. – Знакомый оставил... Вот, забирайте всю. Только у меня зажигалки нет.
– С-е-е-у! – Дед заулыбался, сунул одну сигарету за ухо, вторую вставил в зубы и споро достал откуда-то спички. Вместе с пачкой протянул их Андрею, вынудив того отнекиваться:
– Нет-нет, я бросил...
Немой дед развел руками: мол, не хочешь – как хочешь, и чиркнул спичкой, раскуриваясь.
Андрей полной грудью вдохнул воздух, наполненный осенней сыростью и сигаретным дымом, и вдруг ясно вспомнил день, когда впервые отмахнулся от предложенной другом сигареты.
Они с Маринкой провстречались три года, но последние месяцы ругались часто и безобразно: не хватало денег, времени, сил друг на друга. Каждый хотел получить больше, чем готов был дать другой. Андрей начал поглядывать на сторону. Ничего серьезного, но Марина подозревала за ним грешок и злилась.
В день, когда все закончилось и ничего не началось, она назвала его «бесхребетной тряпкой». Он выложил из кармана ключи на тумбочку в прихожей и ушел, захлопнув дверь. Возвращаться он не собирался, Марина и не звала.
Так и расстались, не прощаясь.
За прошедшие с того дня два года ни разу не разговаривали. От общих знакомых он слышал, что она жива-здорова и вроде как вышла замуж... Он много раз собирался позвонить, но не решался: набрать номер женщины, которая так и не стала безразлична, – это не с куревом завязать. А сама она не звонила.
«Но пора перестать быть тряпкой и ждать халявы. – Андрей достал смартфон. – Была не была... Зотов подождет».
Дед наблюдал за ним с любопытством. Длинные гудки сменились треском, бормотанием телевизора и детским плачем.
– Андрей? – неуверенно спросил знакомый голос. – Это ты? Что-то случилось?
Андрей почувствовал, как у него екнуло в груди: значит, не стерла номер!
– Все хорошо, прости за беспокойство... Я очень рад тебя слышать, – выдохнул Андрей, досадуя, что не заготовил никакой речи заранее. – Ты не занята? В общем, такое дело: я тут неподалеку оказался... Считай, случайно, да. И совершенно случайно в кармане есть печенье к чаю. Можно к тебе зайти ненадолго?
Уже шагая в сторону Маринкиного дома, Андрей понял, что печенье совершенно случайно тоже выбрал ее любимое, с орехами и белым шоколадом.
***
Спустя полчаса Андрей грел руки о кружку с чаем на маленькой кухне и рассказывал о том, как поступал в аспирантуру и как ушел; хвастался успехами Марка, сдавшего контрольную на четыре с плюсом. Все вокруг казалось знакомым, родным – и чужим одновременно: обстановка, запахи, даже сама Марина, немного осунувшаяся, но покрасившая волосы в рыжий цвет. В комнате мама Марины возилась с младенцем.
– А муж?.. – не вытерпел Андрей.
– Был да сплыл. – Марина не отвела взгляд. – Нам доктора напророчили, что Анька инвалидом родится... УЗИ плохое было. Вот он и свалил.
– И как вы одни теперь... Может, вам на лечение деньги нужны? – спросил Андрей с тревогой.
– А у тебя есть? – Марина вскинула бровь.
– Мало, – признал он. – Но что-нибудь найду.
– Не надо, хватит с нас врачей. – Марина вдруг впервые за вечер по-настоящему улыбнулась. – Ошиблись они, Андрюх. Дочка здорова: только овальное окно в сердце было, но заросло уже.
– Вот как... – Андрей улыбнулся в ответ.
Марина помолчала.
– Ну, а у тебя как... с личным? – негромко спросила она.
– Да никак. – Андрей пожал плечами. – Что было, то сплыло – даже вспоминать не хочу... И лишнего сейчас наговорить не хочу. Но очень рад тебя видеть. Очень. Если я, скажем, в эту субботу тебя гулять позову – пойдешь? Ненадолго, а за Аней твоя мама посмотрит.
– С чего такие предложения? – Марина взглянула исподлобья. – Мне казалась, мы друг друга неплохо знаем. Даже слишком. Я и раньше была не подарок, и за два года ленточку бантиком мне на затылке не повязали. Только младенца в роддоме выдали.
– Никто из нас не подарок, – сказал Андрей. – Погулять сходить – не замуж выйти. Давай попробуем, а?
Марина засмеялась. Рыжий цвет ей был очень к лицу.
– В субботу в пять, – сказала она с улыбкой.
А в дверях, когда прощались, добавила:
– Я тоже рада тебя видеть.
Андрей шел по микрорайону и любовался всем вокруг: мокрыми деревьями и отражениями фонарей в лужах, белыми муравейниками панелек с мозаикой освещенных окон. Умом он понимал, что не сделал ничего особенного: угостил дворника сигаретами да позвал бывшую девушку погулять. Но на душе было тепло.
Завибрировал телефон: звонил Зотов.
– Надумали что-нибудь?
– Спасибо, но вынужден отказаться, – сказал ему Андрей. – Не знаю, в чем причина аномалий в вашей выборке, но «закон уксуса», уж простите, чушь. Не так важно, необходимо ли нам самим то, что мы получаем. Дорога возможность разделить это с другими, будь то пачка курева или глупая газетная статейка, которую можно обсудить за ужином. Понимаете? Нет в мире никакого «уксуса»!
Налетел порыв ветра: с каштанов вдоль проспекта посыпались коричневые блестящие плоды. Андрей поднял пару и сунул в карман.
***
На том историю с Зотовым и его сигаретами Андрей считал для себя законченной, однако волею судеб через два месяца она получила неожиданное продолжение.
Деревья уже облетели. Ночами выпадал снег, но к утру таял. Андрей с Мариной пару раз в неделю гуляли или обедали в ближайшем кафе, в общение постепенно возвращалась непринужденность.
В один из солнечных ноябрьских дней они не спеша проходили мимо института. Дворник, запомнивший Андрея с первой встречи, улыбнулся и промычал что-то приветственное. Андрей поздоровался в ответ.
– Добрый день, Борис Никитич, – громко сказала вдруг Марина, подойдя к старику. – Помните меня?
Тот помотал головой, по-прежнему улыбаясь с каким-то детским дружелюбием.
– Ну ничего... Доброго вам здоровья. – Марина кивнула на прощание и быстро пошла прочь.
– Ты его знаешь? – удивился Андрей. – Кто это?
– Так я же училась здесь до третьего курса. – Марина вздохнула. – Профессор Померанцев, Борис Никитич: он вел у нас матстатистику, заведовал кафедрой социальных прогнозов. Инженер, доктор технических наук, но увлекся психологией... На лекциях рассказывал, что собирается построить чудо-машину. А вышло – видишь, как. Ехал с конференции и на трассе влетел под фуру... Сам выжил, но мозг пострадал. Каково не дряхлому еще, деятельному дядьке на пенсии по инвалидности, да и сколько там той пенсии? Только на лекарства хватит. Друзья его подсобным рабочим при институте устроили: вроде и при деле, и под присмотром.
– А что за чудо-машина? – насторожился Андрей.
– Какой-то излучатель для изменения вероятности событий, – сказала Марина. – Он объяснял подробнее, но я тогда ничего не поняла. А теперь уже и не спросишь. Такая судьба...
– Судьба, – согласился Андрей, в глубине души совсем в том не уверенный.
Ближе к вечеру, проводив Марину до дома, Андрей вернулся в институт.
– Я на кафедру, к Зотову, – сказал он сонному охраннику.
– Так Зотов же в командировке, – удивился тот.
– Тогда, значит, к Валентине Сергеевне. То есть к Маховой, – нашелся Андрей и в следующий миг со всей ясностью осознал, что попал в яблочко. Молодой и самоуверенный Зотов вряд ли интересовался чем-то, кроме собственных данных: с вопросами действительно стоило идти к Маховой.
Валентина Сергеевна поливала алоэ, Андрея она встретила удивленным взглядом.
– Ваш бывший начальник, профессор Померанцев, он ведь успел построить свою машину? – спросил Андрей с порога.
– Закройте дверь, молодой человек, – строго сказала Махова. – С той стороны, если собираетесь шуметь и суетиться, или с этой, если хотите поговорить.
– Конечно... Простите. – Андрей прикрыл дверь и сел на краешек стула. – Моя подруга училась у Померанцева. Она сказала мне о машине. Вот я и подумал, что... – Он окончательно смутился.
– Что такое чудеса на языке грубого материализма, Андрей? – Махова отставила в сторону пластмассовую лейку и подошла к столу, заставленному старыми системниками. – Маловероятные события, которые происходят чаще, чем должны происходить. Этим и занимался Боря. Раз интересно – смотрите. – Она осторожно сняла короб с ближайшего системного блока. – Только вряд ли вы много поймете. Я вот не понимаю, хотя полжизни у Померанцева в ученицах проходила.
Андрей невольно ахнул. Вместо обычной начинки внутри системника оказалась стеклянная колба с каким-то темным камнем внутри, из колбы выходили провода, соединенные с несколькими платами. Питалась вся конструкция от обычной розетки.
– Боря под Челябинск ездил, искал обломок метеорита как материальное воплощение маловероятного события, – сказала Махова. – При нагревании и под воздействием тока обломок излучает... Нечто. Что-то такое, что смещает вероятности. Боря называл это парадоксальными волнами. Радиус действия неизвестен, так как методов измерения нет.
– Но это... эта штука работает? – растерянно спросил Андрей.
– Сперва я включала ее только из уважения к Борису. – Махова посмотрела на него со странной улыбкой. – Но потом увидела результаты Зотова и задумалась. Может, и работает. Может, нет. Вопрос вероятности. – Она усмехнулась.
– А чудо – всего лишь маловероятное событие, – тихо сказал Андрей. – Само по себе оно не хорошее и не плохое. Так?
Махова кивнула.
Была ли авария, в которую попал Померанцев, «чудом», или же тот факт, что он остался в живых? Страшный прогноз для Марининой дочки или ее выздоровление? Вряд ли кто-то знал ответ.
Андрей достал из кошелька юбилейную десятирублевку и подбросил в воздух. Прежде чем упасть на пол решкой вверх, монета секунды три крутилась на ребре.
– Маловероятно, что разум Бориса Никитича восстановится, – сказал он. – Поэтому вы держите машину включенной? Чтобы дать ему шанс?
– Не только. «Чудо-машина» – то, что Боря оставил миру. Я не могу выбросить ее или отдать неизвестно кому, – сказала Махова. – Он верил, что, если мир будет менее предсказуемым, это изменит нас к лучшему: люди станут менее пассивными, менее предубежденными, более гибкими... Может, он и прав. Если передумаете насчет работы – позвоните Кириллу и приходите к нам. С ним сработаться проще, чем кажется.
– Спасибо, – еще раз поблагодарил Андрей. – После Нового года обязательно позвоню.
Из-за «чудо-машины» или благодаря авторитету Маховой, но сейчас мысль о возвращении в науку не казалась глупой.
Он попрощался, быстро спустился по лестнице и вышел в пустынный институтский двор. Померанцев, сгребавший с газона последнюю листву, издали махнул ему рукой.
Божко Сергей - Город Колорадо ID #8546
***
Город Колорадо,
добыча на «о»,
уголь делать надо
точно, как в кино.
Тут тебе мозоли,
грыжа в позвонке,
сало на посоле,
местная саке.
Карта твёрдой ночи
светит на крепи.
Пой, горнорабочий,
залезай, терпи.
Дома, дома, дома
свежая еда
и жена, два гнома.
Как всегда.
***
Прыгают камни в зоне обстрела,
серые камни, рыжие сбоку.
Правильно группируется тело,
мысленно выжидая тревогу.
Будет затишье, мирные дали
и воплощение старой картины,
как закрывают подсолнухи марлей
трудолюбивые простолюдины.
Вжились привычкой тяжёлые звуки
без фонограммы сигнального рога.
Чтобы спокойствием вылечить руки
мало Ван Гога, мало Ван Гога.
***
загремело по городу
ох и гремит
осторожно внимание
средний отит
ожидали дождливыми
несколько дней
но удары железные
дали коней
выбивая на выселках
горную крепь
разогнали синоптику
с видом на степь
разнесли по кирпичикам
школьный фасад
деревянное облако
держится над
где стена перекрёстная
где киноварь
заглянула за шиворот
в синий букварь
потекла бы из милости
из-за гряды
аварийная улица
чистой воды
III
По воде по воде по воде по воде
Ты плеснула в Десну я качнулся в нигде
Поводи полосни полусон полувплавь
Острый запах костра
Монотонная дрожь
Звон мелодии падает в Сож
На поверхности свет под поверхностью нет
Ни ветвей ни людей ни твоей ни моей
Лишь на грани на пленке на корке воды
На свинцовом аверсе чеканная ты
Телом всхлюпнет река по глазури рябой
Тень легка
За тобой за тобой за тобой за тобой
IV
Ни дна, ни дня, родная чернота.
И возле дома, яростно и дико,
Иерихонский вытертый металл
Ревет конем. И если ты привстал,
То упади-ка
Обратно на разваленный диван.
Сойди во мрак, как если тебя там
Ждет Эвридика.
И вот по стёклам сок небесный льёт,
Как будто океан наоборот,
И растекает дом, диван и ванну.
Теки в надир, найди источник вод,
И память оживёт:
Нет ни окна, ни дома, ни дивана.
Лишь тесный луч в пучину урагана,
Где Эвридика ждёт.
VII
Здесь только пропасть, чтобы всем пропасть,
распяленная пасть, пустотный Папа
с родительской окоченелой лапой,
в лопатки вперивший конвойный глаз.
Я так боюсь, что ты могла упасть
уже давно - ни шороха, ни крика,
и за моей спиной слепое Лихо
бредет на птичьих лапах в темноте.
И боязно поддаться глухоте,
всеобщей, разделенной, непреложной,
и потерять тревожащий мотив,
тот хрупкий звон, прозрачно улетевший.
Поверить лжи, и самому быть люжью.
Поверить в лёд, захолодивший тело,
и намертво примёрзнуть на пути.
Мы призраки, нам тяжело идти.
Здесь только пропасть
про-
клясть
и обида.
Так страшно, что тебя совсем не видно,
не раздается ни шагов, ни шума.
Прости, прости, я сам тебя придумал
с тоски, из застоявшихся "люблю",
из каверны в ошеломлённом завтра.
Так говорю,
но это лишь слова,
не музыка, а стало быть, неправда.
Ты умерла, не больше, чем мертва.
А умершие движутся за мной,
не дышат в индевеющий затылок,
не шаркают, одаренные силой
не отставать.
И, знаю, за спиной,
не устаешь, бредёшь голодным зверем
за часом час.
Нет, я не повернусь, чтобы проверить.
Не в этот раз.